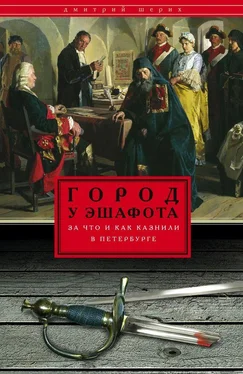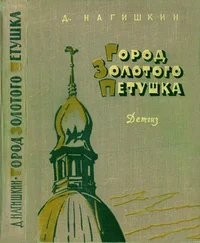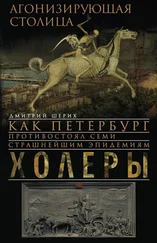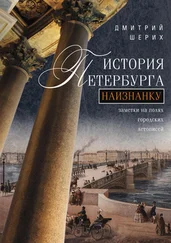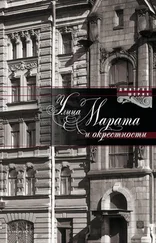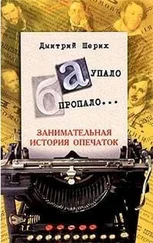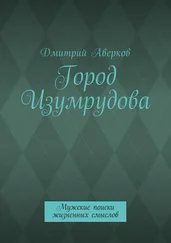Важно понимать: публичная казнь была не самостоятельным наказанием, а процедурой, частью наказания, она не отменила и не заменила собой обряд политической смерти; во втором случае, как и прежде, преступнику должны были зачитать на эшафоте смертный приговор, и только после этого объявить высочайшее повеление, дарующее жизнь. Приговоренных к политической смерти ждала, как правило, вечная каторга.
Гражданская же казнь ждала, как правило, тех, кто был приговорен к более умеренным наказаниям.
Именно публичной казнью закончилась история Сытного рынка как легендарного лобного места столицы. Последняя экзекуция на площади рядом с ним состоялась 14 декабря 1861 года: это была гражданская казнь писателя Михаила Ларионовича Михайлова, уличенного в «злоумышленном распространении сочинения, в составлении коего он принимал участие и которое имело целью возбудить бунт против Верховной власти для потрясения основных учреждений Государства, но осталось без вредных последствий по причинам, от Михайлова не зависящим». Михайлова приговорили тогда к лишению всех прав состояния и шести годам каторги.
В тот день все было так, как обычно и случалось при таких казнях: Михайлова, облаченного в серую арестантскую одежду, на позорной колеснице доставили из Петропавловской крепости на Сытный рынок, возвели на эшафот, поставили на колени, прочли приговор, под барабанный бой переломили над головой шпагу. Поскольку власть, опасаясь демонстраций, сделала все, чтобы число зрителей было по возможности скромным, — даже объявление о предстоящей экзекуции появилось в «Ведомостях С. -Петербургской городской полиции» в тот же день, а саму экзекуцию назначили на 8 часов утра — публичной в полном смысле слова эта казнь не была.
Официальный отчет о церемонии, обнаруженный в архиве Третьего отделения Михаилом Николаевичем Гернетом, весьма лаконичен: «14 декабря 1861 г. Сего числа в 8 часов утра при исполнении преступнику Михайлову конфирмации, в присутствии коменданта и обер-полицмейстера, находились на месте объявления 5 эскадрон лейб-гвардии Казачьего полка и С. — Петербургский батальон внутренней стражи. Приговор приведен в исполнение в 8 часов 10 минут, и преступник отвезен обратно в С. -Петербургскую крепость. Публики было незначительно, кончилось благополучно».
Минуло полгода с небольшим — и в Петербурге состоялась еще одна экзекуция, только уже в другой части города, на Мытнинской площади, она же Зимняя Конная (ныне не существует, часть ее занимает Овсянниковский сад). То было еще одно привычное лобное место столицы: смертью здесь не казнили никогда, но телесные наказания производили еще с XVIII века, что отмечал и автор знаменитого описания Петербурга конца того столетия Иоганн Готлиб Георги: «Ежедневное стечение народа на сию площадь чрезвычайно велико, для чего происходит здесь и наказание уголовных преступников».
Именно на Мытнинскую площадь к восьми часам утра 31 мая 1862 года доставили Владимира Александровича Обручева, отставного гвардейского поручика и сотрудника журнала «Современник», уличенного в «распространении такого сочинения, которое, хотя без прямого и явного возбуждения к восстанию против Верховной Власти, усиливается оспаривать и подвергать сомнению неприкосновенность прав ее и дерзостно порицать установленный государственными законами образ правления».
Обручева приговорили к лишению всех прав состояния и трем годам каторжных работ с последующим поселением в Сибири навечно. Объявление о предстоящей экзекуции было опубликовано накануне, благодаря чему на площади к моменту гражданской казни собралось множество зрителей. Сказалось и царившее в столице общественное возбуждение: совсем недавно случились пожары Апраксина и Щукина дворов, и молва обвиняла во всем нигилистов, к каковым с легкостью причисляла и Обручева.
Сам Владимир Александрович много лет спустя вспоминал, что везли его на Мытнинскую не на позорной колеснице, а в карете, под конным конвоем жандармов, причем вместе с ним ехал протоиерей Василий Петрович Полисадов, известный в Петербурге проповедник, не единожды привлекавшийся к работе с подследственными и приговоренными.
«Ехали томительно долго. Наконец, вот площадь, войска, начальство, масса народа вокруг. Вступаю в каре без шапки, которую оставил в карете, поднимаюсь на эшафот, довольно высокий, ставят к столбу, не помню — привязали или нет. Погода чудесная, легкий ветерок приятно освежает голову. Стою неподвижно, пока читают приговор. Публика близко. Вижу одно знакомое лицо, академического профессора Лебедева, тихо опускаю веки, глядя на него. В первом ряду — будущий обер-полицеймейстер Паткуль, простым дилетантом (быть может, для доклада), в сюртуке, улавливает этот взгляд и быстро оборачивается в ту сторону. Сломали шпагу, бросили ее на помост, надели халат с бубновым тузом, напялили арестантскую шапку и повели к карете. Теперь было шумнее на улицах, жандармы жались к карете еще ближе, и кажется, что, где было можно, мы переходили на рысь. В халате было ужасно жарко, шапку я снял».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу