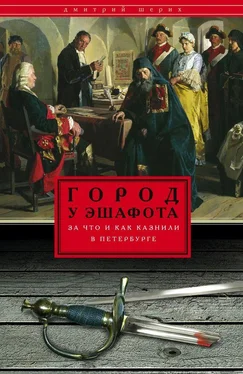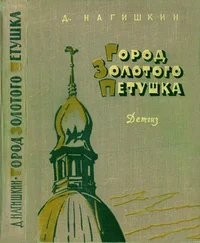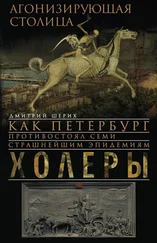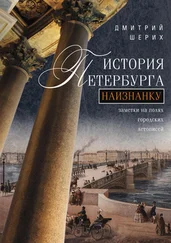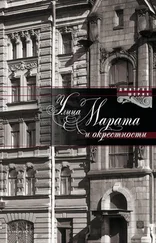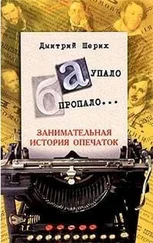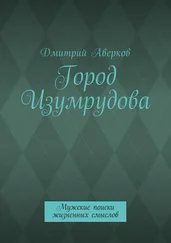Рассказ Достоевского о тех минутах позже записала мемуаристка: «Мне показалось, что он никого из нас не видел, не слышал перешептывания; он смотрел куда-то вдаль и точно переживал до мелочей все, что перенес в то страшное морозное утро.
— Не верил, не понимал, пока не увидал креста… Священник… Мы отказались исповедоваться, но крест поцеловали… Не могли же они шутить даже с крестом!.. Не могли играть такую трагикомедию… Это я совершенно ясно сознавал… Смерть неминуема. Только бы скорее… И вдруг напало полное равнодушие… Да, да, да! Именно равнодушие. Не жаль жизни и никого не жаль… Все показалось ничтожным перед последней страшной минутой перехода куда-то… в неизвестное, в темноту… Я простился с Алексеем Николаевичем, еще с кем-то… Сосед указал мне на телегу, прикрытую рогожей. «Гробы!» — шепнул он мне… Помню, как привязывали к столбам еще двоих… И я, должно быть, уже спокойно смотрел на них… Помню какое-то тупое сознание неизбежности смерти… Именно тупое… И весть о приостановлении казни воспринялась тоже тупо… Не было радости, не было счастья возвращения к жизни… Кругом шумели, кричали… А мне было все равно — я уже пережил самое страшное…»
Федор Михайлович вообще-то не слишком любил вспоминать про тот день; все, что мы знаем о его тогдашних ощущениях и мыслях, — это буквально обрывки, прежде всего из его письма к брату: «Сегодня, 22 декабря, нас отвезли на Семеновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головою шпаги и устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в последнюю минуту ты, только один ты, был в уме моем, я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними. Наконец ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь».
После помилования началась процедура гражданской казни. Над головами дворян палачи ломали шпаги, приговоренных переодевали в арестантскую одежду: «…дали каждому арестантскую шапку, овчинные, грязной шерсти, тулупы и такие же сапоги». Петрашевского отправили в Сибирь прямо с эшафота — и Ахшарумову особенно запомнилось, как Михаил Васильевич, в раздражении от неловкости кузнецов, заковывавших его в кандалы, сам присел на помост и стал себя заковывать.
…Завершим эту главу историей, зафиксированной в дневнике Леонтия Васильевича Дубельта за 1851 год: «НОЯБРЬ 1. Отставной коллежский секретарь Панов ударил на Благовещенском мосту часового и за то был отдан под суд. Его приговорили к смерти и сегодня привели его на Семеновский плац для совершения казни, но Государь Император помиловал его».
Тоже ведь повторил отставной чиновник судьбу петрашевцев. Пострадал буквально ни за что, был приговорен к смерти, томился, ждал неизбежного, но в конечном итоге остался жив.
Обряд гражданской казни. «Сломали шпагу, бросили ее на помост, надели халат с бубновым тузом, напялили арестантскую шапку и повели к карете». На эшафоте — Чернышевский.
Читатель знает: во всякой публичной казни власть видела не только наказание, но средство воспитания, воздействия на потенциальных преступников. Когда в 1845 году наказание кнутом было отменено, император Николай I распорядился предусмотреть для отправляемых на каторгу преступников «предварительное выставление у позорного столба, с действующими на ум зрителя обрядами».
Законом от 21 января 1846 года обряд публичной казни был учрежден. «Этот обряд, — писал выдающийся дореволюционный юрист Николай Таганцев, — состоял из двух частей: а) отвоза преступника на место казни на возвышенных черных дрогах, окруженного стражей, в сопровождении духовного лица, в арестантском платье, с надписью на груди его о роде вины, а изобличенного в убийстве отца или матери — с черным покрывалом на лице; и б) самого обряда казни, т. е. прочтения ему приговора, переломления над ним, если он дворянин, шпаги и выставки на эшафот к позорному, черной краской окрашенному столбу, где наказанный и оставался в течение 10 минут, а затем, если он подлежал наказанию плетьми, то исполнялось таковое и, когда следовало, налагались клейма».
В принципе, ничего нового, у позорного столба преступники стояли и раньше, но именно в XIX столетии, во второй его половине, публичная казнь (она же казнь гражданская) стала заметным явлением петербургской жизни. Гражданским казням нашлось место в художественной литературе, в русской поэзии, в публицистике…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу