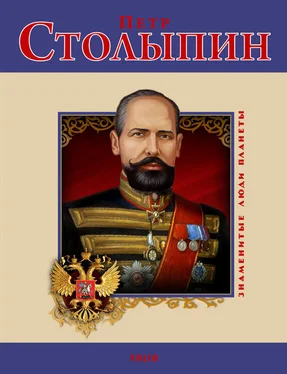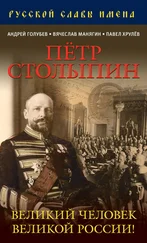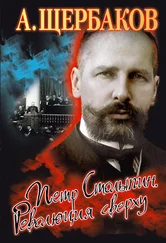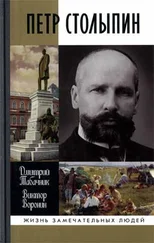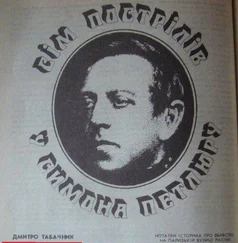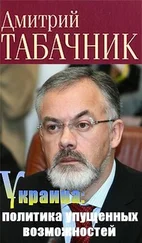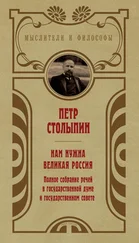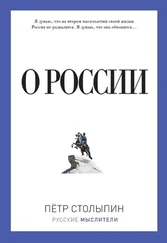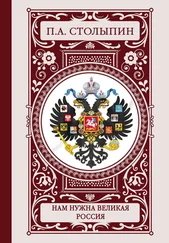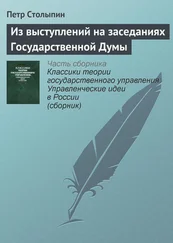После апреля 1907 года военно-полевые суды имели право лишь на рассмотрение дел военнослужащих, и число осужденных (в основном это были организаторы военных бунтов и убийцы командного состава) свелось к минимуму – например, в год смерти Столыпина они осудили всего 58 человек.
Столыпину, как человеку глубоко верующему, было тяжело идти на пролитие крови, но он понимал, что другого выхода, чтобы спасти Россию от террора, не было. И он глубоко верил, что необходимость жестких мер против террора будет понята и принята большинством населения. По словам премьера, «Россия сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей, применяющих самые чрезвычайные, может быть, меры с одним только упованием, с одной надеждой, с одной верой – исцелить трудно больного».
Внутренне отторгая пролитие крови, Столыпин тем не менее считал, что наиболее опасным в России является проявление слабости, о чем говорил неоднократно. Например, вот характерные для него слова: «Допущенная в одних случаях снисходительность в других может порождать мысль о неуместности строгой кары, которая превращается как бы в излишнюю жестокость». Сам он, несмотря на все душевные терзания, слабости никогда не проявлял и при любых обстоятельствах брал на себя ответственность за самые жесткие решения по противодействию террору и подавлению беспорядков. Для Столыпина ответственность вообще была само собой разумеющимся качеством государственного деятеля. По словам Петра Аркадьевича: «Нет большего греха для государственного человека, чем малодушие. Ответственность – величайшее счастье моей жизни!»
Подавление революционного террора было важно для Столыпина еще и потому, что только в стране, где каждодневно не лились потоки крови, можно было проводить системные реформы. Неслучайно программа мер борьбы с революционным насилием была обнародована Столыпиным 24 августа 1906 года одновременно с программой радикальных реформ в самых различных сферах, о которых говорилось не менее конкретно и особенно подчеркивалось, что правительство для их проведения не будет ожидать, пока полностью будет подавлен террор.
При этом сугубо экономические реформы (и, в первую очередь, наиважнейшая для государственного развития – аграрная) органично сочетались в правительственной программе с реформами по демократизации государственного управления. Это еще раз свидетельствовало о том, что Столыпин ни в коей мере не собирался идти по пути бездумной реставрации и отменять огромные изменения в жизни страны, произошедшие после Манифеста 17 октября 1905 года.
Особое значение премьер уделял реформам, которые призваны были защитить гарантированные Манифестом права и свободы российских граждан. Неслучайно первое место в столыпинском списке занимали вопросы обеспечения свободы вероисповедания, неприкосновенности личности и гражданского равноправия.
Показательно, что даже аграрная реформа виделась Столыпиным не изолировано, как сугубо экономическая мера, а и как инструмент создания подлинного свободного гражданина, для которого естественным стало бы уважение к чужой собственности.
Подчеркнем – обнародованная кабинетом Столыпина масштабная программа не была только декларацией. Она немедленно начала претворяться в жизнь по большинству упомянутых главой правительства направлений. Особое внимание было уделено реализации земельной реформы, которую премьер видел центральной в программе своих преобразований, и Совет министров немедленно подал на утверждение императору свои предложения о первоочередных мерах. Столыпин обоснованно считал, что сначала следует использовать резерв казенных земель, продажа которых крепким хозяевам станет первым этапом аграрной реформы. Предложения председателя Совета министров были одобрены высочайшим указом 27 августа 1906 года. Этот указ стал началом грандиозной аграрной реформы, но было понятно, что поставленную премьером задачу создания класса крепких хозяев невозможно решить только с помощью перераспределения казенных земель, размер которых был достаточно ограничен.
Единственная возможность провести полноценную аграрную реформу заключалась в предоставлении крестьянам права свободного выхода из общины всем желающим с предоставлением неразделенного земельного участка. Но премьер сразу же столкнулся с чрезвычайно активным сопротивлением своим планам. Причем против ликвидации общины категорически выступали не только левые (считавшие ее основой будущего социалистического строя), но и многие правые, в том числе находившиеся в ближайшем царском окружении. Они, наоборот, считали консервативную крестьянскую общину основой государственного устройства и наиболее надежной опорой престола.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу