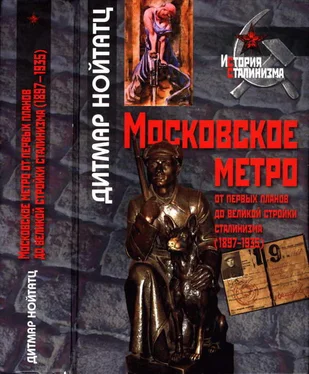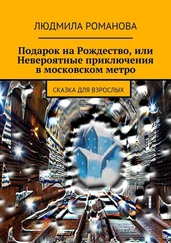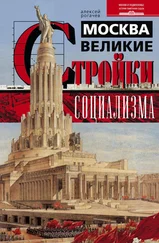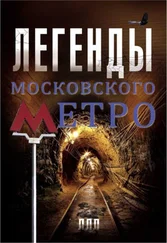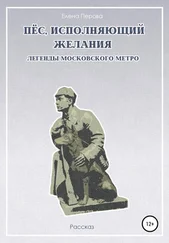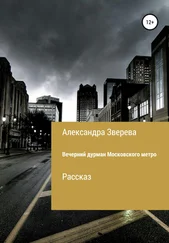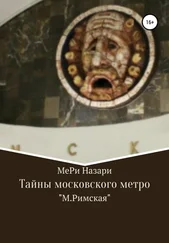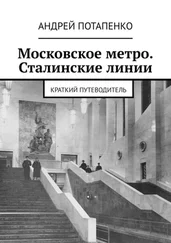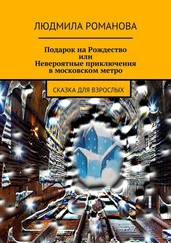Некоторые из этих исследований в конце 1980-х гг. привели к новой ориентации, поскольку их авторы взялись за изучение менталитета групп, признанных носителями сталинизма {38} 38 Schroder. Industrialisierung 1988; Maier Robert. Die Stachanov-Bewegung 1935- 1938. Der Stachanovismus als tragendes und verscharfendes Moment der Stalinisierung der sowjetischen Gesellschaft. Stuttgart, 1990.
. Под общим названием «новая история культуры» (Neue Kulturgeschichte) оформились различные направления, которые новыми вопросами и методами могли подхватить идеи, которые Роберт Такер в 1970-е гг. сформулировал в контексте его «культурного подхода» («cultural approach») {39} 39 Tucker Robert C. Stalinism as Revolution From Above // Stalinism. Essays in Historical Interpretation / ed. by Robert Tucker. New York, 1977. P. 77-110; Idem. Stalin in Power. 1990.
.
Внимание ученых привлекает теперь культура в самом широком смысле слова, включая повседневную жизнь, субъективное восприятие реальности или коллективную систему ценностей {40} 40 Подр. о культурно-историческом подходе см.: Hildermeier Manfred. Osteuropaische Geschichte an der Wende. Anmerkungen aus wohlwollender Distanz // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. 46 (1998). S. 244-255; Plaggenborg Stefan. Stalinismusforschung: Wie weiter? // Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte/ hg. v. Stefan Plaggenborg. Berlin, 1998. S. 443-452; Stadelmann Matthias. Die Neue Kulturgeschichte des revolutionaren RuBland. Diskursive Formationen und soziale Identitaten. Erlangen; Jena, 1997; Beispiele dieser Herangehensweisen: The Culture of the Stalin Period // ed. by Hans Gunther. New York, 1990; Kultur im Stalinismus. Sowjetische Kultur und Kunst der 1930er bis 1950er Jahre / hg. v. Gabriele Gorzka. Bremen 1994. Kotkin 1995. Hellbeck, Jochen: Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi (1931-1939) //Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. 44 (1996). S. 344-373; Plaggenborg Stefan. Revolutionskultur. Menschenbilder und kulturelle Praxis in SowjetruBland zwischen Oktoberrevolution und Stalinismus. Koln; Wien; Weimar, 1996; Bolshevik Culture: Experiment and Order in the Russian Revolution / ed. by Abbot Gleason, Peter Kenez and Richard Stites. Bloomington, 1985; Mass Culture in Soviet Russia. Tales, Poems. Songs, Movies, Plays, and Folklore, 1917-1953 / ed. by James van Geldern and Richard Stites. Bloomington, 1995; Stites Richard. Russian Popular Culture: Entertainment and Society since 1900. Cambridge, 1992; Culture and Entertainment in Wartime Russia / ed. by Richard Stites. Bloomington, 1995; Tagebucheditionen aus diesem Umkreis: Tagebuch aus Moskau 1931-1939 / hg. v. Jochen Hellbeck. Munchen, 1996; Intimacy and Terror: Soviet Diaries of the 1930s / ed. by V. Garros, N. Korenevskaya and T. Lahusen. New York, 1995 (deutsche: Ubersetzung: Das wahre Leben. Tagebucher aus der Stalinzeit / hg. v. Veronique Garros, Natalija Korenewskaja und Thomas Lahusen. Berlin, 1998).
. Воссоздание субъективного жизненного мира исторических персоналий есть одновременно метод и основная источниковедческая проблема этого направления. Правда, достаточно затруднительно восстанавливать желания, мотивы, идентичность и самосознание действующих исторических персонажей по их поступкам и собственным свидетельствам, а также по показаниям третьих лиц. Стефен Коткин, автор крупной, но в то же время спорной монографии о Магнитогорске, использовал подобные категории, когда писал о модели сталинизма как о «цивилизации», системе ценностей, позволяющей добиться позитивной интеграции людей {41} 41 Kotkin. 1995. P. 23.
.
Культурно-исторический подход смог существенно обогатить наше представление о сталинизме. Совершенно очевидно, что социально-историческое направление, преобладавшее в 1970-1980-х гг., пренебрегало областью культуры. Социальную историю интересовал вопрос, какие слои поддерживали систему, получая от нее привилегии. Однако одного этого мотива недостаточно. Поддержку системы не стоит объяснять исключительно материальными факторами. Историческое изучение Советского союза должно восполнить имеющиеся лакуны. Сегодня никого больше не устраивает исходная позиция, при которой люди предстают пассивными исполнителями, почти марионетками, побуждаемыми к деятельности. С другой стороны, культурно-исторический подход не может развиваться в изоляции от других методов, если речь идет о цели реального приращения знаний, позволяющих не только точнее описать феномен сталинизма, но и раскрыть механизм его функционирования. Субъективную реальность не следует обозначать как единственно пригодную для исследования, ее надо рассматривать в контексте социальной и политической действительности. Структурный социально-исторический подход и субъективный культурно-исторический не исключают друг друга, напротив, задача заключается в том, чтобы объединить оба приема изучения истории {42} 42 Hildermeier. Osteuropaische Geschichte. 1998. S. 255. 20
. При этом вполне возможно новое обращение к категориям даже концепции тоталитаризма, таким как тезис Ханна Арендта о разрушении личности.
По сути бесполезен спор о том, какому методу отдать предпочтение при исследовании сталинизма: социально-, культурно-историческому или политологическому: ни один из них в одиночку не способен раскрыть феномен сталинизма, хотя и предпринимаются все новые попытки монокаузального объяснения всеобщих закономерностей. Автор предлагаемой читателю книги о Метрострое сознательно избирает прагматический подход на примере отдельного исследования добиться синтеза различных подходов и теоретических истолкований. Сталинизм, повторюсь, следует изучать не под одним, но под различными углами зрения: в политическом, социально- и культурно-историческом аспекте, как социальную практику на фоне специфических структурных признаков и черт системы. Таким образом, автор хотел бы познакомить читателя с наглядной картиной повседневной жизни и внутренним миром людей в Советском Союзе 1930-х гг., которая разительно отличается от современности не только по материальным условиям существования, но и в плане ценностной ориентации, менталитета и поведенческих стереотипов.
Читать дальше