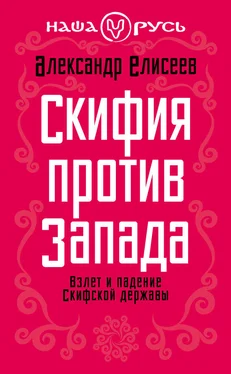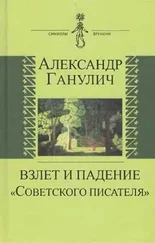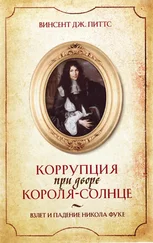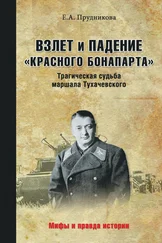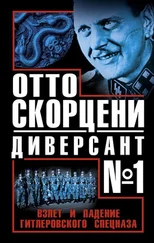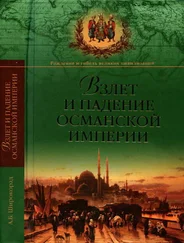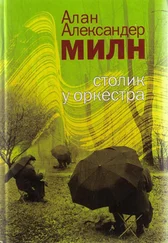Данное сообщение некоторыми историками (например, М. Ю. Брайчевским) считается одним из вариантов сказания о князе Кие. Основание для таких выводов дает имя «Сунихильда»-«Сванехильда», которое этимологически связано с одним из германских названий лебедя, отсюда и указание на сестру Кия Лыбедь. Причем связь рассказа Иордана с русской, славянской исторической действительностью подтверждается данными нашего эпоса. Образ Лыбеди-Лебеди присутствует в русских былинах о Михаиле Потоке и Иване Годиновиче, которые представляют собой древнейшую часть русского эпоса. В них как раз фигурирует неверная жена Лебедь и три брата. Правда, логика повествования тут несколько перевернута – Лебедь не является сестрой трем братьям, а действует в качестве жены одного из них, которому она, собственно, и изменяет. За это изменница подвергается суровой мести. В любом случае, былины сохраняют довольно большой фрагмент изначального сказания.
Сам Иордан тоже привел искаженную версию. Сар и Аммий, как уже отмечалось, не могли жить в IV в., ибо города Сар и Амадока упоминаются Птолемееем за два века до смерти Германариха и разгрома готов. Однако, данное смещение исторических событий не случайно – чтото заставило Иордана поселить Сара и Аммия в IV в. н. э. Очевидно, что братья, выступившие против Германариха, находились в какой-то связи с «фракийскими» правителями I–II вв. н. э. Связь эта могла быть династической, и тогда, признав Амадока Днепровского Кием Первым, необходимо признать иордановского «Аммия» Кием Вторым.
То есть тем самым Кием, который привел русов к Днепру из «Дикого поля».
В данном случае необходимо пристальнее взглянуть на этимологию имени «росомоны». Еще Б.А. Рыбаков показал, что слово это двухсоставное. И если первая его часть («рос») указывает на этническую принадлежность, то вторая часть этимологизируется на основе осетинского (иранского) «мойне», означающего – «люди». Но вот вопрос – зачем нужно было использовать слово «люди» для обозначения неких росов, успешно выступивших против Германариха? Вопросом этим как-то никто особо не озадачивался, а, между тем, ответ на него позволил бы прояснить очень многое. Как представляется, речь здесь идет о «людях из народа рос», которые поселились в Приднепровье. Их предводители – Кий с братьями – стали чем-то вроде вассалов готского правителя. При этом они, судя по всему, имели все династические права на то, чтобы княжить в Киеве, основанном Кием Первым – Амадокой. (Впрочем, как уже отмечалось, крупные поселения на месте Киева возникли еще в сколотское время.) Кий Второй принадлежал к той же династии, что и Амадока. И династия эта имела как скифо-иранские, так и дунайско-фракийские корни, что заставляет вспомнить о легендарном Славене, который отправился из Причерноморья во Фракию.
Готское владычество тяготило росомонов, и в «час икс» они, во главе с Кием и его братьями, выступили против Германариха. И это положило конец всем готским планам по утверждению своего господства в Скифии. После разгрома гуннами готы мигрировали в западном направлении, где сыграли важную роль в установлении европейского Средневековья. Впрочем, ушли не все – какие-то готы долгое время жили в Крыму. Весьма любопытно, в данном плане, сообщение Льва Диакона о том, что князя Игоря Старого убили некие «германцы». Нам же известно о его смерти от рук древлян, недовольных объемом собираемого полюдья. Возникает вопрос – уж не приняли ли готы какое-то участие в акции по уничтожению княжеской дружины и убийстве самого князя? Речь могла идти о крымских готах, хранящих враждебное отношение к русичам – потомкам росомонов. Так, «Слово о полку Игореве» повествует о каких-то готских девах, которые «поют на берегу синего моря время Бусово, лелеют месть Шаруканю» (время, когда готы убили славянского князя Буса и его старейшин). Еще и тогда была жива память о давних обидах, должна была она жить и в Х в.
Княгиня Ольга усмирила бунтующих древлян, а ее сын Святослав Игоревич серьезно взялся за готов. В 962 году князь утвердил было протекторат над крымской Готией, но потом она попала под патронаж Константинополя. И когда пала Византия, сильно грецизированная Готия стала одной из ее наследниц. Правители готского «княжества Феодоро» (ср. с Теодорихом) именовали себя василевсами. Они боролись против турок и генуэзцев. С Русью у них были очень неплохие отношения. «В начале XV века престарелый владетель Феодоро князь Стефан, передав престол сыну Алексею, с сыном Григорием отъехал в Московию за помощью в борьбе с неверными, – пишет С. Веревкин. – В русских летописях есть запись о том, что «князь Гот ский Стефан Васильевич Ховра и сын его Григорий жили в Москве». В Москве князь Стефан принял монашество под именем Симон. После его смерти сын Стефана основал в Москве монастырь, названный в честь отца Симоновым. Так неожиданно греческий князь из Феодоро оставил на века свой след в истории Москвы… В 1472 году князь Феодоро Исаак, брат Телемаха, выдал свою племянницу Марию замуж за молдавского господаря Стефана III и приобрел нового сторонника в борьбе против Османской империи. Также при активном влиянии князя Исаака племянница последнего византийского императора Софья Палеолог в 1472 году была отдана замуж за Великого князя Московского Ивана III. При нем потомки князя Стефана Гавраса занимали видное место в Московии. Иван III, которому по душе пришлась гречанка Софья, в течение 1474 года вел активные переговоры о свадьбе своего сына на феодоритской княжне, что еще больше сблизило бы оба государства. Они прервались со смертью Исаака и смещением в начале 1475 года его сына Тихона с престола княжичем Александром». (С. Веревкин. «Падение двух Византий».) Так произошло окончательное примирения потомков готов и росомонов, которые схлестнулись в IV в.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу