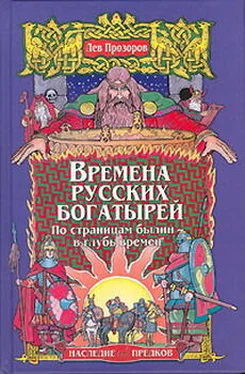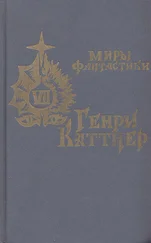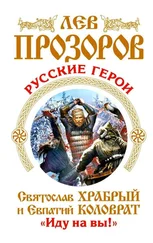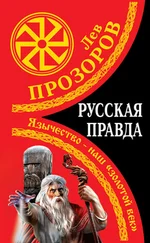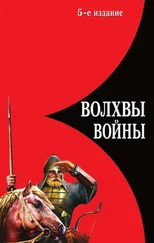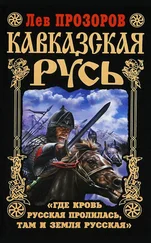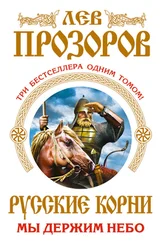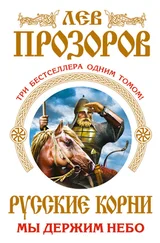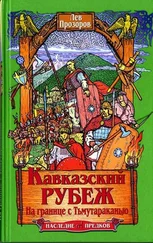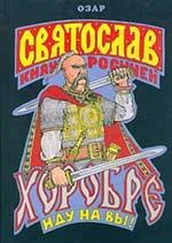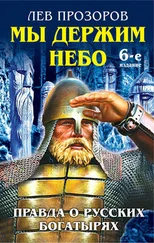Естественно, для решения второго вопроса нам будет бесполезным исторический облик Александра Великого. Его пути пролегали вдали от Польских и вообще славянских земель. Нам важнее мифическое обрамление его образа. Зачатие Александра приписывали Зевсу в образе Змея. Плутарх сообщает, что его «земной» отец Филипп окривел на один глаз, попытавшись подглядывать за супругой, отдающейся Зевсу-Змею, а на средневековых изображениях — западных гравюрах и славянских миниатюрах — часто изображается этот сюжет — Олимпиада в объятиях дракона. А гибель Александра некоторые средневековые легенды связывали с попыткой взлететь на небо с помощью искусственных средств. Он был низвергнут с небес разъяренным богом и разбился. Нетрудно понять, что образ главного врага Алеши, перед которым он предстал скоморохом («ткачом») и которого победил «хитростью и подвохом», Тугарина Змеевича, взлетевшего в небо на огненных или бумажных крыльях и низвергнутого оттуда дождем — иногда грозой, — ниспосланными богом по молитве Алеши, мог вызвать у начитанного клирика ассоциации с Александром. Это было в духе «Великой хроники», с ее выведением Волина от Юлия Цезаря и Демина от Домны Августы, с ее превращением По-пелюша в Помпилиуша и пр.
Итак, польского героя зовут Лешко Попелюш, русского — Алешка Попович, Налицо сходство имен. Алеха в русских диалектах и Лешко по-польски означают плута, обманщика. Налицо сходная семантика имен. Польский герой «ткач»-скоморох, русский переодевается скоморохом. Оба побеждают врага хитростью. У обоих враг — сын Змея, и гибнет, попытавшись взлететь в небеса. Как выражался по схожему поводу Б.Н. Ярхо, «нужны сильные аргументы, чтобы при таких сходствах отрицать исконность тождества»,
В западнославянских и северно-русских сказках сохранилось предание о герое по прозвищу Попялов, Попя-лышка, Попелюх, Попельвар, Попельчек. Он хитростью одолевает врага на крылатом коне, сочетающего черты змея и конного воина, сопровождаемого воронами и псами — то есть полностью повторяющему образ Тугарина в былинах. И поскольку прозвище былинного героя, судя по всему, только лишь созвучно слову «попович», а происходит от «Попель» — пепел, то нет ничего странного и в его «языческом» поведении.
Именно в «Великой хронике» сохранилось во всем подобное былинным описание самоубийства бросающегося на меч воина.
Заслуживает внимания и еще одно обстоятельство: польский язык — единственный, кроме русского, славянский язык, сохранивший слово «богатырь» (bohater, bohatur, bohaterz) в значении «герой». Украинское «бога-тир» — позднейшее литературное заимствование из русского, белорусское «багатырь», по сути, только созвучно польскому и русскому словам, обозначая совершенно иное понятие — богач. С другой стороны, именно «Великая хроника» нарекает, совершенно по-былинному, врагов, нападавших на Польшу в X веке, скопом «татарами». Таким образом, как бы оба полюса былинного сознания — богатыри и «татары» — присутствуют в польском языке, причем именно в былинном значении — героев и обобщенных врагов соответственно.
Эпоса «вильтинов», велетов, лютичей не сохранилось.
Как не сохранилось и самого народа. Только по наблюдению Хомякова мы можем судить, что среди их онемеченных потомков продолжали бытовать представления о Дитрихе-Теодорихе как злодее. Описание расправы с врагом, как уже отмечалось, буквально соответствовало обычаям балтийских славян (см. главу «Череп-трофей»), но этот обычай имеет слишком много аналогов, чтоб быть показателем этнического происхождения данного мотива. Гораздо надежнее другой былинный мотив. В былине о князе Борисе Романовиче из «синя моря» выходит «зверь кабанище». Ситуация довольно нетипичная — кабаны нечастые гости на морских берегах. Однако она находит полнейшее подобие в предании лютичей, веривших, «что если когда-нибудь им будут угрожать трудности жестокой долгой смуты (в других переводах — междоусобная война, внутренняя война. — Л. П.), то из упомянутого озера (священного озера лютичей Толлензее, на берегу которого стоял город Радигощ с храмом Сварожича. — Л. П.) выйдет большой вепрь с белоснежными клыками».
Былина заканчивается долгой и кровопролитной битвой русского князя-богатыря с войсками, высланными против него Владимиром.
Уникальное поверье лютичей оказывается наглядно проиллюстрировано в сюжете русской былины.
Итак, славянские предания Средней Европы имеют точки пересечения с русскими былинами; точки пересечения, лежащие далеко за пределами банальных «бродячих сюжетов» вроде змееборчества или допустимых теорией вероятности совпадений.
Читать дальше