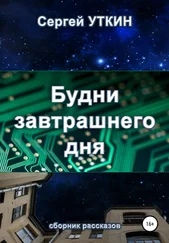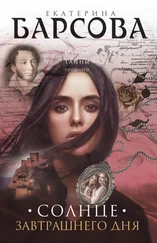Вот когда это случилось, у наших военных и политиков возникло ощущение самодостаточности – теперь можно не беспокоиться.
А как следствие – начали слабеть прямые стимулы совершенствования вооружения. Предложения разных технических новшеств и изобретений, требующие дополнительных волнений и перестроек встречали в ведомственных корридорах все меньше и меньше энтузиазма. Атмосфера в промышленных кругах стала круто меняться и очень мало походить на то, с чем мы вошли в послевоенный мир.
Как следствие этого процесса интерес оборонной промышленности к исследованиям поиского характера тоже стал снижаться. А вместе с ним менее интенсивными становились и обращения к академическим коллективам. Теперь уже не промышленность приходила к нам с просьбами о проведении тех или иных исследовательских работ, а мы – академические теоретики стали пытаться заинтересовать промышленность, дабы она своими влияниями и финансовыми возможностями поддержала наше слабеющее существование. Время, когда промышленность не могла без нас обойтись ушло. И я думаю, что навсегда!
В таком развитии событий была еще одна немаловажная причина. И она тоже была связана с монополизмом отраслей. Отраслевые конструкторские и технологические институты стали заводить свои собственные теоретические отделы и сумели в этом преуспеть: к началу 60-х готов теоретические группы в отраслевых НИИ и КБ представляли уже значительную силу.
Особенно остро все это сказалось, опять же на состоянии дел с вычислительной техникой. Военная промышленность пошла по линии создания и использования специализированных электронных машин. А универсальные компьютеры, которые нужны были, прежде всего, исследователям, перестали быть в центре внимания производителей. Оригинальные отечественные разработки, которые нам позволили на заре истории развития вычислительной техники провести все расчеты необходимые для создания ядерного оружия и запуска человека в космос, постепенно сходили на нет! Их стали замещать машины, так называемой, единой серии – неудачные копии устаревших образцов фирмы IBM. А талантливые конструкторы наших собственных компьютеров стали спиваться. И не в переносном, а прямом смысле! Что еще остается делать талантливому художнику, если ему поручают копировать чужие картины?
Еще хуже обстояло дело с процессом внедрения электронной техники в управленческую, торговую и хозяйственную деятельность, что было особенно выгодным, с точки зрения эффективности производства. Конечно, кое что делалось, но скорее под давлением общественности, чем в силу производственной необхордимости. И заторможенность технического прогресса была также легко объяснима той отраслевой монополизацией и разбиением всей нашей жизни на уделы, которые сверху до низу пронизывали все наше существование.
Коль нет конкурента, коль ты единственный производитель, то и незачем что то усовершенствовать, стараться – и так съедят, ведь больше есть нечего! Да и к тому же принцип «не беспокоить». Тем более внедрением новой управленческой технологии, основанной на компьютерной обработке информации, которая влечет особое беспокойство. Ведь эта самая компьютеризация всегда связана с необходимостью учиться, переучиваться на старости лет. И, что самое страшное для любого чиновника, такая смена технологии неизбежно связана с перестройкой управленческой структуры. То есть с заменой одних людей другими. А это всегда болезненно для любых организацонных структур. И если такую перестройку можно избежать, то любой чиновник готов заплатить за это немалую цену.
Вот так, постепенно, все и начало изменяться к худшему. И мы у себя в Вычислительном Центре и на Физтехе очень скоро почувствовали эти изменения. Приходилось искать новые области для работы. По другому работать самим и по другому учить студентов. Ракетно-космическая тематика и в Академии Наук начала себя исчерпывать. Такое, может быть было и естественным, поскольку наши работы стали потихоньку превращаться из поисковых в рутинную инженерную практику. И совсем не был неправ наш тогдашний Президент Академии М.В. Келдыш, когда он говорил о необходимости использовать весь тот математический аппарат, те навыки и знания, которые мы приобрели, работая по тематике ВПК, в гражданской сфере – если бы они там были нужны!. Он призывал нас к новым поискам. Келдыш, может быть лучше чем кто либо, чувствовал «начало конца». Послевоенный взлет стал выдыхаться. Система переходила в стационарное состояние, которое мы позднее назовем состоянием застоя. Но это было ее естественное состояние – неисправимое без коренного изменения самих основ Системы и, прежде всего, отраслевого монополизма. Вот этого мы тогда не понимали и стремились многое исправить, апеллируя к разуму, к науке. Результаты известны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
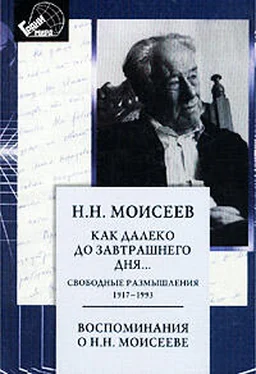
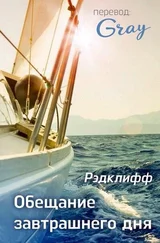
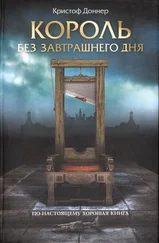

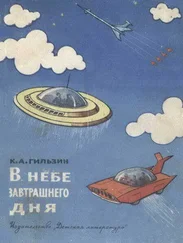
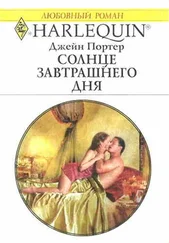
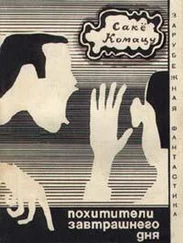
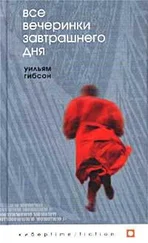

![Светлана Рощина - Небо завтрашнего дня [litres самиздат]](/books/436859/svetlana-rochina-nebo-zavtrashnego-dnya-litres-samiz-thumb.webp)