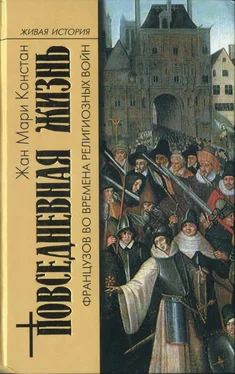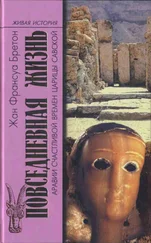Виноделы и ремесленники отдали свои голоса в основном нотариусу, а земледельцы сумели лучше убедить виноделов, чем ремесленников. Следует ли из этого делать вывод, что ремесленники выказали недоверие к своим клиентам, которые не слишком любили платить долги, и что это недоверие сказалось на результатах голосования? Батраки, слишком малочисленные, чтобы историк мог собрать о них точные сведения, вряд ли выбирали землевладельцев, своих работодателей и сходных с ними по уровню жизни виноделов; скорее всего, их голоса были отданы ткачу и легисту.
Есть ли основания говорить о «крестьянском голосовании», о «крестьянской власти»? В какой мере те, кто непосредственно трудился на земле, кто ее обрабатывал и от нее зависел, проявляли свою заинтересованность по отношению к другим жителям деревни — торговцам, ремесленникам, служителям правосудия, чьи занятия, на их взгляд, являлись, говоря современным языком, «подсобными»? Чтобы ответить на этот вопрос, надо посчитать тех, кто голосовал только за крестьян: таких всего 7%, то есть явное меньшинство.
20% избирателей отдали оба своих голоса служителям закона (прежде всего нотариусу, полагая, видимо, что тот имеет возможность оказать реальные услуги жителям). Тем не менее электорат Бевиль-ле-Конт захотел дать в помощники нотариусу земледельца. Как и в Прюнэ-ле-Жийон, селяне хотели создать тандем: служитель закона — земледелец, дабы их интересы представлял и знаток законов, и тот, кто непосредственно работает на земле и в курсе всех деревенских проблем.
Рассмотрев на примере одного прихода, как происходил выборный процесс в разгар Религиозных войн, убеждаешься, что крестьяне были вынуждены постоянно прибегать к «посредникам», умеющим писать и обладающим определенным багажом знаний, в том числе знаний в области законов, а значит, могли бы помочь им защитить свои интересы или выдвинуть свои требования. Когда же законника-легиста под рукой не было, или же полагали, что этот легист не может представлять их интересы по причинам морального характера или по причине отсутствия у него надлежащего образования, крестьяне брали дела в собственные руки.
Исследуя тексты наказов, становится ясно, что в каждой деревне существовала более или менее многочисленная группа глав «очагов», и эта группа проводила, а иногда и навязывала остальным свою политику.
Проблемы религии на первом месте
Во всех пятидесяти списках наказов, составленных в бальяже Шартр, большая часть требований связана с церковью и духовенством — более 20%. Аналогичные показатели характерны для шателенств Труа, а в селениях Шампани с религиозными проблемами связано целых 37% наказов. На основании этих цифр можно оценить, как широко ставился вопрос о реформе католической церкви. Не удивительно, что в следующем веке реформа эта была проведена с необычайным энтузиазмом. Еще более наглядным является сравнение с 1789 годом, когда в том же самом бальяже Шартр только 3,7% наказов касалось религиозных проблем. К концу XVIII века вопросы религии прочно отошли на задний план, уступив место проблемам налогов, феодальных прав и реформы государственной власти.
В XVI веке, напротив, бушевали религиозные страсти и проблемы, связанные с верой, находились в центре животрепещущих дискуссий как в городе, так и в деревне. И хотя историографическая традиция на протяжении полувека пытается доказать, что религиозные проблемы являлись всего лишь фасадом, за которым скрывались конфликты экономического и социального характера, мы с удовлетворением можем сказать, что собранные нами статистические данные подтверждают, что в то время люди основное внимание уделяли вопросам религии. Полученные нами данные вписываются в историческое предвидение крупнейшего историка Люсьена Февра, одного из основателей школы Анналов. Сельский житель XVI века был бы наверняка изумлен, узнав, что есть люди, утверждающие, что его требования, связанные с вопросами веры и религиозной практики, были второстепенными, в то время как сам он считал их основными, они доминировали над прочими его проблемами.
Интересно, что сельские жители не касались вопроса присутствия в их деревне протестантов. Только в четвертой части наказов (иначе говоря, в одиннадцати из пятидесяти) есть требования, направленные «против существования разных религий». Значит, три четверти крестьян, проживавших в приходах вокруг Шартра, либо приспособились к соседям-протестантам, либо не считали нужным вспоминать о их существовании. Те же, кто, подобно жителям Марвиль-ле-Буа, подчеркивал, что «война и разруха пришли в королевство из-за двух разных религий», или, подобно жителям Булэ-д'Ашер, объяснял, что «пришлось претерпеть огромное зло по причине веры, именующей себя реформированной», считали, что зло происходило от «злонамеренных», «злоупотреблявших новой религией». Для этих людей единственным решением проблемы было только возвращение к «католической вере, апостольской и римской». Жители Геонвиля вспомнили даже о гневе Господнем и написали в наказе, что «все, приводящее к дурной жизни, будет уничтожено, и тогда гнев Господа утихнет». В наказах Илье, Сен-Лу, Липланте, Эрменон-виль-ла-Птит и ряда других деревень говорится, что религиозное единство должно привести к миру, а потому «следует истребить новые ереси и покарать тех, кто их изобрел».
Читать дальше