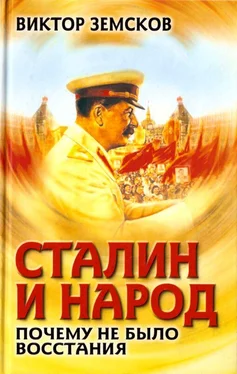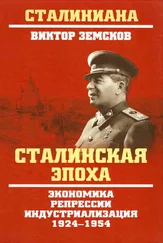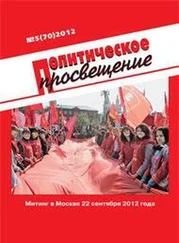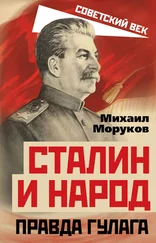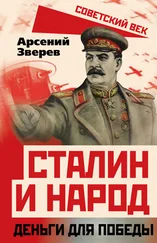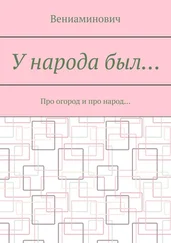Однако основной формой воспитательной работы среди колхозников оставались методы убеждения. Санкции, рекомендованные Постановлением от 13 апреля 1942 года, применялись не так уж часто. В 1940 году по тыловым областям колхозники, не выработавшие минимума, составляли 12,6 % трудоспособного населения, из колхоза было исключено 7,7 %; в 1944 году при 11,1 % трудоспособных, не выработавших минимума, установленные законом санкции были применены всего лишь к 3,3 % [185] ИСК. Т. 3. С. 181.
.
Следовательно, есть основание утверждать, что в годы войны применение правовых мер как побудительного средства активизации общественного труда колхозников не только не усилилось, а, наоборот, заметно уменьшилось. Это воочию опровергает имеющие широкое хождение в зарубежной, а в последние годы — в отечественной литературе утверждения о так называемом принудительном труде в колхозах в годы войны, о том, что якобы только с помощью принудительных мер удалось поддерживать трудовое напряжение крестьянства. Подобные утверждения не имеют ничего общего с исторической правдой. Пожалуй, не было ни одной крестьянской семьи, у которых кто-либо из членов семьи не находился бы на фронте. Основную массу крестьянства не нужно было принуждать к тому, чтобы с полной отдачей сил трудиться и этим оказывать посильную помощь своим родным и близким, сражающимся с чужеземными захватчиками.
Лейтмотивом морально-психологического состояния и отношения к труду у подавляющего большинства крестьянства являлись патриотические побуждения, стремление оказать посильную помощь фронту. Это наше утверждение далеко не голословно, а основывается на многочисленных конкретных фактах, свидетельствующих о том, что из среды тружеников села исходило бесчисленное множество различных патриотических инициатив, которые обычно получали широкое распространение. Однако М. А. Вылцан в своей книге, выпущенной в 1995 году, назвал массовый трудовой героизм крестьянства «утвердившимися в исторической литературе клише и штампами». При этом о патриотических побуждениях в по ведении крестьянства он не сказал ни слова, а мотивацию к трудовой деятельности объяснил тем, что, мол, «в поведенческой структуре крестьян не последнее место занимало и ощущение страха, неотвратимости наказания за неисполнение «своего гражданского долга», приказа высших и местных властей» [186] Вылцан М. А. Крестьянство России в годы Большой войны. 19411945: Пиррова победа. М., 1995. С. 17.
. Если следовать логике М. А. Вылцана, то получается, что главным побудительным мотивом трудового подвига крестьян являлись не патриотические побуждения, а страх перед наказанием. Эта псевдоноваторская концепция могла бы быть предметом дискуссии, если бы не наличие огромного массива исторических фактов, прямо ее опровергающих. Причем М. А. Вылцан прекрасно осведомлен о том, что из среды крестьянства исходило множество патриотических инициатив. Поэтому его выводы мы не можем расценить иначе как умышленную фальсификацию, как осознанное стремление дегероизировать и опошлить величие трудового подвига советского крестьянства.
В вышедшей в 2004 году статье М. А. Вылцана и В. В. Кондрашина приводится статистика уголовного преследования за невыработку обязательного минимума трудодней и на основе этого делается совершенно неправильный и извращенный, по нашему убеждению, вывод: «Приведенные факты ставят под сомнение распространенные в литературе клише и штампы о «массовом трудовом героизме» крестьян, «жертвенном подвиге деревни» в годы войны. Да, многие тысячи, десятки тысяч крестьян трудились, не жалея сил, для обеспечения фронта всем необходимым, но зачем было вводить обязательный минимум трудодней? Крестьяне, безусловно, осознавали неизбежность тягот и лишений, вызванных войной, но, пожалуй, в большей степени в их отношении к труду действовал страх наказания за невыполнение своего «долга», приказа центрального и местного начальства» [187] Вылцан М. А., Кондрашин В. В. Патриотизм крестьянства // Война и общество. 1941–1945. М., 2004. Кн. 2. С. 56.
.
Для недостаточно подготовленного читателя вышеприведенное высказывание М. А. Вылцана и В. В. Кондрашина может показаться убедительным, но это далеко не так. В их концепции заложено чудовищное извращение исторической правды. Из логики их рассуждений вытекает, что массовый трудовой подвиг советских крестьян являлся следствием не их патриотических побуждений, а страха перед неким наказанием. Мы категорически не можем согласиться с подобной «концепцией». Очень странно, что Вылцан и Кондрашин, входящие в число ведущих историков-аграрников, не видят очевидную вещь, а именно: постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 года не было направлено против большинства крестьянства. Оно не было направлено ни против стахановцев и ударников, ни против тех миллионов тружеников села, которые добросовестно выполняли установленные задания, движимые патриотическими побуждениями. Данное постановление было направлено в первую очередь против лодырей, бездельников и тунеядцев, а также против полулюмпенских и спившихся субъектов, чтобы заставить их работать. А заставить их работать надо было обязательно: этого требовала чрезвычайная военная обстановка, в рамках которой в сельском хозяйстве ощущалась острая нехватка рабочей силы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу