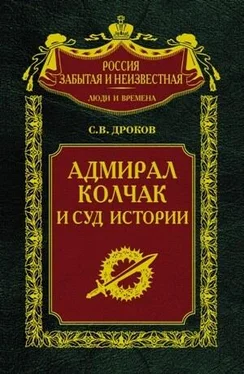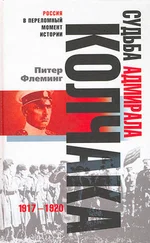24 марта 1920 г. «Следственное дело бывшего Совета министров» обогатилось отобранными у Бевад послужными списками и газетными публикациями с биографическими сведениями Г.К. Гинса, Г.А. Краснова, А.П. Морозова, товарища министра снабжения и продовольствия К.Н. Неклютина, А.М. Окорокова, В.Н. Пепеляева, министра земледелия Н.И. Петрова, П.И. Преображенского, контр-адмирала М.И. Смирнова (близкого друга А.В. Колчака), С.Н. Третьякова, Л.А. Устругова, Червен-Водали и Шумиловского [436].
Особо пристального внимания заслуживает объемная записка «Состав Совета министров», отпечатанная на папиросной бумаге. Личные впечатления о ближайшем окружении Верховного правителя настолько интересны, ярки и неординарны, что без доли сомнения указывают на тесное знакомство с ними неизвестного автора [437].
И если эта записка с довольно нелицеприятными характеристиками членов правительства почему-то ускользнула из «актива улик» на судебном процессе, то послужные формулярные списки Краснова, Пепеляева, Преображенского, Червен-Водали и Шумиловского соответствовали их должностному положению. А список А.П. Морозова был использован государственным обвинителем А.Г. Гойхбаргом доказательством «насаждения внешних проявлений сброшенного в 1917 г. царского самодержавия».
Смешно сказать, но «насаждение» заключалось в написании делопроизводителем в 1919 г. с большой буквы строк о награждении Александра Павловича серебряной медалью в память императора Александра III и в том, что ему было предоставлено право ношения светло-бронзовой медали, учрежденной в память 300-летия царствования дома Романовых [438].
Второе направление выразилось в процессуальном действии третьего порядка, или, как отметил подсудимый Ларионов, «механическом признаке, совершенно не являющемся доказательством». Составляя осмотры (собраний узаконений и распоряжений Временного Сибирского правительства, собраний постановлений и распоряжений Западно-Сибирского комиссариата Временного Сибирского правительства, собраний узаконений и распоряжений правительства, издаваемых при Правительствующем сенате, журналов заседаний Административного совета Временного Сибирского правительства, журналов открытых и закрытых заседаний Совета министров колчаковского правительства), Константин Андреевич выписывал краткое постатейное содержание принятых постановлений, имевших, опять же, по его оценке, «антинародную направленность», и перечислял подписавшихся под ними членов правительственного кабинета [439].
Если бы данные осмотры в дальнейшем были использованы для намеченного «заключения» перед омским следствием, начатым 14 марта, тогда кабинетная аналитическая работа заместителя председателя Иркутской Губчека могла бы расцениваться ее неофициальным самостоятельным видом. Но на практике реализовалось самое страшное для подследственных – фактическое наличие их подписей посчиталось в Омске непререкаемым доказательством прямого соучастия в последствиях принятых коллегиальных постановлений.
В результате к делу бывшего Совета министров Сибирского правительства Колчака 23 марта были приобщены: 42 номера собраний постановлений и распоряжений Западно-Сибирского комиссариата, Временного Сибирского правительства, Правительствующего сената; семь томов журналов Административного совета, закрытых заседаний Совета министров, заседаний большого и малого Советов; три тома копийных журналов Совета министров; шесть томов копий докладов и представлений в Совет министров; том документов по заседаниям Совета министров, а также пакет с шифрограммами прямых переговоров [440].
Тем временем работа Чрезвычайной следственной комиссии продолжалась полным ходом. 1 апреля следственное дело П.В. Вологодского (которого так и не удалось «выловить») пополнилось материалами к его декларации, зачитанной на заседании Сибирской областной думы, изъятыми из папки помощника начальника главного управления почт и телеграфа В. Миронова [441].
Среди материалов, помимо декларации, доклады членов правительства, представленные на рассмотрение председателя Совета министров Временного Сибирского правительства в августе 1918 г.
Товарищ министра внутренних дел А.А. Грацианов, характеризуя деятельность министерства, придерживался точки зрения, что земские учреждения, созданные на демократических началах, предназначались для поднятия народного образования, заботы о народном здравии и призрении, для улучшения сельского хозяйства, промыслов, путей сообщения. Длительная и тяжкая война, всеобщий развал и отсутствие общепризнанной власти подвергли народившиеся самоуправления тяжким испытаниям. Задачи земства в Сибири стали еще более серьезными и ответственными, а условия их работы – непомерно тяжелыми. Если при нормальных условиях нужны были героические усилия, чтобы земство могло правильно функционировать, то летом 1918 г., в обстоятельствах переживаемого момента, эти задачи только усугубились.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу