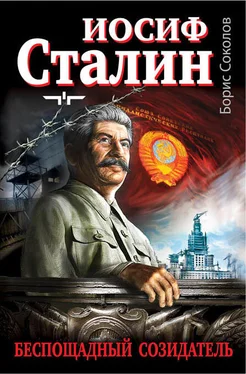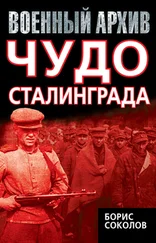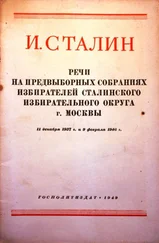А 28 января 1929 года на встрече с американским бизнесменом Кэмпбеллом Сталин утверждал: «Каждый период в национальном развитии имеет свой пафос. В России мы имеем теперь пафос строительства. В этом ее преобладающая черта теперь. Этим объясняется, что мы переживаем теперь строительную горячку. Это напоминает о периоде, пережитом ССШ (Североамериканскими Соединенными Штатами. – Б. С .) после гражданской войны. В этом основа и возможность технико-промышленной и торговой кооперации с ССШ». Вскоре грянул мировой финансовый кризис, особенно больно ударивший по Соединенным Штатам. В результате Сталин получил возможность по дешевке покупать американское промышленное оборудование и заполучить для его монтажа первоклассных американских инженеров, которые в условиях массовой безработицы были рады любой работе.
В феврале 1930 года Сталин позволил наградить себя вторым орденом Красного Знамени «за огромные заслуги на фронте социалистического строительства». Иосиф Виссарионович с собственными наградами и званиями не перебарщивал, до брежневского «звездопада» ему было далеко, но все же время от времени ордена и иные регалии на себя возлагал. Этим он принципиально отличался от Гитлера, который так и не позволил ни разу наградить себя в бытность канцлером и президентом.
На первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников 19 февраля 1933 года Сталин открыл нехитрый рецепт счастливой жизни на селе: «Чтобы стать колхозниками зажиточными, для этого требуется теперь только одно – работать в колхозе честно, правильно использовать тракторы и машины, правильно использовать рабочий скот, правильно обрабатывать землю, беречь колхозную собственность». Он забыл еще добавить: надо было еще не умереть с голода. А беречь собственность колхозов колхозникам предписывал драконовский закон от 7 августа 1932 года, прозванный в народе «законом о колосках». Сбор колосков на колхозном поле приравнивался к хищению социалистической собственности и карался заключением в лагерь на срок до 10 лет или, при отягчающих обстоятельствах, высшей мерой социальной защиты – расстрелом. А без «кражи» колхозных запасов колхозникам, частенько получавшим на трудодни лишь галочки в табеле, порой было не выжить.
Коллективизация, в основном завершившаяся в 1934 году, позволила Сталину завершить процесс социальной унификации советского общества. В результате крестьянство было деклассировано, лишено возможности сопротивляться любым, самым диким и абсурдным мероприятиям власти. Колхозники нужны были диктатору только как поставщики почти дармовой сельскохозяйственной продукции и как пушечное мясо во время войны. Наиболее активные и непокорные из крестьян были расстреляны во время подавления стихийных бунтов, сгинули в ссылках и концлагерях, наконец, просто погибли от голода. Показательно, что на Украине закон от 6 декабря 1932 года предусматривал занесение в «черный список» тех деревень, жителей которых признавали виновными в саботаже и диверсии (а таковыми считалось сокрытие зерна). В этих деревнях немедленно закрывались государственные и кооперативные магазины и изымались их запасы. Здесь запрещались все виды торговли и кредитования, производился немедленный возврат всех прежних долгов, а также осуществлялась чистка от всех «чуждых элементов» и «саботажников». Аналогичные меры применялись в России и других союзных республиках. Голод 1932–1933 годов был хорошо организован и направлен в первую очередь против тех, кто сопротивлялся коллективизации. Например, уже к 15 декабря 1932 года на Украине в «черный список» попали все деревни 88 районов из 358.
С 26 января по 10 февраля 1934 года состоялся съезд победителей – XVII съезд партии, после которого раскаявшийся Бухарин был назначен редактором газеты «Известия», и другие раскаявшиеся оппозиционеры получили второстепенные номенклатурные должности. Сталин играл с ними, как кошка с мышкой.
С лета 1933 года многим в стране стало казаться, что наступила «оттепель», что период репрессий против оппозиционеров и казней тех, кто выступал против коллективизации, позади. Многие раскаявшиеся троцкисты возвращались из тюрем и лагерей. Но уже 13 мая 1934 года, всего через три месяца после общепримиряющего «съезда победителей», арестовали поэта Осипа Эмильевича Мандельштама. При обыске были найдены стихи «О кремлевском горце».
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу