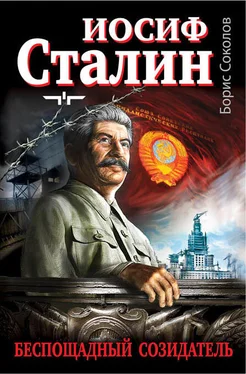в 1925 году кончил самоубийством поэт Сергей Есенин;
в 1926 году – писатель Андрей Соболь;
в апреле 1930 года, когда обращение Булгакова, посланное в конце марта, было уже в руках Сталина, застрелился Владимир Маяковский. Ведь нехорошо получилось бы, если бы в том же году наложил на себя руки Михаил Булгаков?»
Сталин Булгакова не принял, но в исполнение апрельского решения Михаила Афанасьевича 10 мая зачислили во МХАТ. Вряд ли на самом деле это было хоть как-то связано с булгаковским обращением к генсеку от 5 мая. Скорее всего, две недели ушло на доведение по инстанциям решения Политбюро до руководства Художественного театра. Но Булгаков, по всей видимости, связал поступление «в лучшую школу, возглавляемую мастерами К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко», именно со своим вторым письмом Сталину, что укрепило в нем чувство благодарности вождю.
Теперь все надежды на лучшее будущее Михаил Афанасьевич возлагал на встречу с Иосифом Виссарионовичем. В письме к В.В. Вересаеву 22 июля 1931 года он признавался: «Есть у меня мучительное несчастье. Это то, что не состоялся мой разговор с генсекром. Это ужас и черный гроб. Я исступленно хочу видеть хоть на краткий срок иные страны. Я встаю с этой мыслью и с нею засыпаю». До этого в наброске письма Сталину Булгаков просил его: «…стать моим первым читателем…», а в письме от 30 мая 1931 года испрашивал разрешение на краткосрочную зарубежную поездку: «В годы моей писательской работы все граждане беспартийные и партийные внушали и внушили мне, что с того самого момента, как я написал и выпустил первую строчку, и до конца моей жизни я никогда не увижу других стран.
Если это так – мне закрыт горизонт, у меня отнята высшая писательская школа, я лишен возможности решить для себя громадные вопросы. Привита психология заключенного.
Как воспою мою страну – СССР?»
В заключение Булгаков писал: «…Хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам.
Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти.
Вы сказали: «Может быть, вам действительно нужно ехать за границу…»
Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссером в театрах СССР».
В письме же Вересаеву Булгаков задавался вопросом, почему Сталин его не принял: «Год я ломал голову, стараясь сообразить, что случилось? Ведь не галлюцинировал же я, когда слышал его слова? Ведь он же произнес фразу: «Быть может, Вам действительно нужно уехать за границу?..»
Он произнес ее! Что произошло? Ведь он же хотел принять меня?..»
И написанную в 1931 году пьесу «Адам и Ева» Булгаков завершает словами, обращенными к автобиографичному во многом герою – ученому-творцу Ефросимову: «Иди, тебя хочет видеть генеральный секретарь».
Сталин молчал. Разрешения на выезд дано не было. Зато в январе 1932 года по личному сталинскому распоряжению восстановили во МХАТе «Дни Турбиных». А еще раньше, в октябре 31-го, цензура разрешила булгаковскую пьесу о Мольере. Из двух вопросов, которые неизменно поднимал драматург в своих взаимоотношениях с генсеком, о выезде за границу и о судьбе своих произведений, первый неизменно получал отрицательное решение. Особенно унизительным был отказ в зарубежной поездке летом 1934 года, вызвавший возмущенное письмо Сталину, оставшееся, как и предыдущее, без ответа. А вот насчет, пусть очень дозированного, проникновения булгаковских пьес на сцену Сталин, возможно, позаботился. Только старался при этом, чтобы Булгаков, не имевший достойных конкурентов среди «идеологически благонадежных» драматургов, никоим образом здесь не доминировал. В чем же причина подобного двойственного отношения?
Сталин, несомненно, любил «Дни Турбиных» и около двадцати раз смотрел мхатовский спектакль. Как подметил В.Я. Лакшин, в знаменитой речи 3 июля 1941 года, в самые тяжелые дни Великой Отечественной, «Сталин, ища слова, которые могли бы дойти до сердца каждого, сознательно или бессознательно использовал фразеологию и интонацию монолога Алексея Турбина на лестнице в гимназии: «К вам обращаюсь я, друзья мои…»» (вместо казенно-партийных «товарищей»). А исполнитель роли Алексея Турбина Николай Хмелев сообщил Елене Сергеевне, что «Сталин раз сказал ему: хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши черные усики (турбинские). Забыть не могу». Сталин даже защищал пьесу перед «неистовыми ревнителями». Так, в феврале 29-го, на встрече с украинскими писателями, откровенно заявившими: «Мы хотим, чтобы наше проникновение в Москву имело своим результатом снятие этой пьесы», он вполне резонно возразил: «Если вы будете писать только о коммунистах, это не выйдет. У нас стосорокамиллионное население, а коммунистов только полтора миллиона. Не для одних же коммунистов эти пьесы ставятся». И тогда же, в феврале, Сталин написал ответ драматургу Владимиру Билль-Белоцерковскому о пьесе «Бег», где высказался и о «Днях Турбиных»: «Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже «Дни Турбиных» – рыба…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу