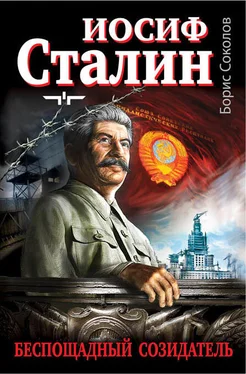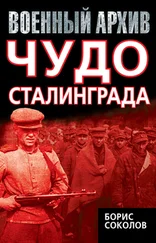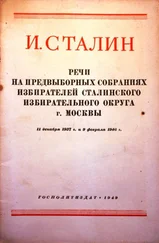Керженцев, в частности, признавал немалые художественные достоинства пьесы, из которой можно было бы сделать очень сильный спектакль, но именно эти достоинства в обрисовке «отрицательных», по советским меркам, персонажей считал политически вредными: «Крайне опасным в пьесе является общий тон ее. Вся пьеса построена на примиренческих, сострадательных настроениях, какие автор пытается вызвать и, бесспорно, вызовет у зрительного зала к своим героям.
Чарнота подкупит зрителей своей непосредственностью, Хлудов – гамлетовскими терзаниями и «искуплением первородного греха», Серафима и Голубков – своей нравственной чистотой и порядочностью, Люська – самопожертвованием, и даже Врангель будет импонировать зрителям.
В эмиграции автор рисует ужасы их материального и морального бытия. Булгаков не скупится в красках, чтобы показать, как эта группа людей, среди которых каждый по-своему хорош – терзалась, страдала и мучилась, часто незаслуженно и несправедливо».
Наверное, Сталин и сам прочел «Бег». И был солидарен с Керженцевым в высокой эстетической оценке пьесы. Что же касается оценки политической, то здесь их мнения, похоже, несколько разошлись. Если Платон Михайлович основную опасность видел в «реабилитации» белых генералов, то Иосиф Виссарионович смотрел на дело глубже. Он в своем письме Билль-Белоцерковскому генералов даже не упоминал, а сосредоточил огонь критики на «всяких приват-доцентах» и «по-своему «честных» Серафимах», то есть на тех, кого Керженцев считал персонажами, хотя наделенными чистотой и порядочностью, но сугубо второстепенными. Для Сталина победа большевиков, достигнутая, среди прочего, с помощью невероятной жестокости, беспощадности к тем, кто не с ними, могла быть оправдана только безусловной виной всех их жертв. Сталину необходимо было верить, что и вовсе не принадлежавшая белому движению часть русской интеллигенции, по выражению Керженцева, «чистая, кристальная в своей порядочности, светлая духом, но крайне оторванная от жизни и беспомощная в борьбе», в действительности замарана уже тем, что сидела на шее у рабочих и крестьян, строила свое благополучие на их поте и крови. Согласись Булгаков унизить Серафиму и Голубкова, допиши требуемые один-два сна, где они противопоставлены «человеку из народа», и «Бег», наверное, был бы пропущен на сцену сталинского любимого Художественного театра. Но Михаил Афанасьевич, в письме правительству открыто назвавший одной из основных черт своего творчества «упорное изображение русской интеллигенции, как лучшего слоя в нашей стране», на компромиссы с совестью не шел.
Похоже, что вплоть до 1926 года, до постановки «Дней Турбиных», и даже позднее, фигура Сталина для Булгакова значит еще очень мало. В булгаковском дневнике 1923–1925 годов имя Сталина не упоминается ни разу, хотя присутствуют Ленин, Троцкий, Зиновьев, Рыков (последний, правда, лишь из-за своего поистине легендарного пьянства). Первое булгаковское письмо, попавшее в руки Сталину, было адресовано еще не ему лично, а «Правительству СССР», и, кроме генсека, имело еще целый ряд адресатов, вроде руководителя ОГПУ Генриха Ягоды и председателя Главискусства Феликса Кона. После этого письма от 28 марта 1930 года и состоялся памятный телефонный разговор Сталин – Булгаков. Ход его разные свидетели описывают по-разному. Вторая жена Булгакова, Любовь Евгеньевна Белозерская, единственная, слышавшая весь разговор по отводной телефонной трубке, утверждает: «На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом и себя называл в третьем лице: «Сталин получил, Сталин прочел…» Он предложил Булгакову:
– Может быть, вы хотите уехать за границу?..
Но М.А. предпочел остаться в Союзе».
Существует несколько иная версия, изложенная третьей булгаковской женой, Еленой Сергеевной Шиловской (Нюрнберг), которой Булгаков рассказал о разговоре со Сталиным в тот же день, 18 апреля 1930 года: «…Голос с явно грузинским акцентом:
– Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков…
– Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.
– Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь… А может быть, правда – вы проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели?
(Михаил Афанасьевич сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса (да он и звонка вообще не ожидал) – что растерялся и не сразу ответил):
– Я очень много думал в последнее время – может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу