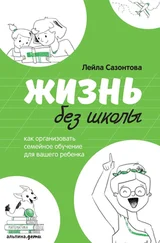Учителей принуждали быть политически «равнодушными», заставляли считать классовую борьбу не своим делом и чтобы они ни о чем, кроме обучения детей, во времена острейшего противостояния не помышляли. Примечательно, что требования нейтралитета порой исходили от властей — это лишний раз подтверждает уязвимость положения учителей между противоборствующими сторонами. В Западной области председатель изгнал учительницу Простакову из сельского совета за критику его работы. Когда она, набравшись духу, явилась на собрание, то услышала: «Дело учителя работать в школе, а не вмешиваться в дела совета» {114} 114 Лебедев М. Повысим роль учителя в борьбе за культурную революцию. С. 42.
. Так председатель почти слово в слово повторил требования, предъявляемые «антисоветскими элементами».
Над сельским учителем всегда висел дамоклов меч. Это хорошо видно из дневника Ф. Д. Покровского, которого в начале 1930-х гг. направили из Курска на работу в сельскую школу. По прибытии в деревню Покровский узнал, что его предшественницу, Савицкую, уволили за мужа-кулака. Свои сомнения Покровский записал в дневник:
«В душе как-то не могу решить этого сложного вопроса: должна ли жена страдать за грехи мужа. Вообще я недоволен своей чертой характера, которая именуется по-современному “мягкотелость”. Мне поэтому трудно занимать твердую, жесткую позицию».
В целом согласившись с увольнением учительницы, Покровский, однако, черными красками описывает своих коллег:
«Учительство, на мой взгляд, забитое: что им скажешь, то они и делают. Гражданского мужества мало. Многие, похоже, были не согласны с предложением коммунистов относительно Савицкой, а выступить в ее защиту не посмели».
Покровского заставили охранять семьи кулаков перед отправкой в ссылку, он, описывая их страдания, отвергает навешенные на них режимом ярлыки и приходит к выводу: «А люди все-таки люди». Такие колебания не прошли для Покровского даром: партийные функционеры заподозрили его в «склонности к примиренчеству» и «недостаточно твердой классовой позиции» {115} 115 Покровский Ф. Д. «На деле раскулачивание проходит гораздо суровее, чем пишут об этом» // Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927-1932 гг. / под ред. В. П. Данилова и Н. А. Ивницкого. М. , 1989. С. 306-314.
. От него ждали безропотного повиновения, подталкивали внести свою лепту в травлю «народа», называя это политической активностью. Очевидно, Покровский предпочел «примиренчество», «остаться в стороне», «не совать свой нос» в политику и по мере сил воздерживаться от участия в насильственных действиях, т. е. выбрал осуждаемый политвождями нейтралитет. Записав свои сомнения в дневнике, Покровский тем не менее, подобно тысячам его коллег на школьном фронте, действенно помогал советской власти, когда одобрил увольнение Савицкой и присматривал за арестованными кулацкими семьями [7] В связи с распоряжениями об увольнении далеко не всегда в школе спешили «взять под козырек». В одной школе в 1930 г. увольнение посчитали незаконным, однако председатель сельсовета не позволил директору школы зачитать совету соответствующее заявление. См.: Нарушение правового и материального положения учительства грозит срывом всеобуча. С. 19.
.
Самоанализ Покровского нетипичен (и опасен), однако нейтралитет старался держать не только он один. Похожие настроения господствовали в школах одного из районов Северного Кавказа в конце 1931 г.: «Учительство в большинстве случаев, если и принимает участие в общественной и политической работе, то формально, без энтузиазма. Твердости, необходимой для преодоления встречающихся трудностей, у учительства нет». Обращаясь к односельчанам-таджикам, Ашумов предельно откровенно заявил: «Учитель должен быть нейтральным, поэтому я ни за колхоз, ни против колхоза агитации и работы не веду» {116} 116 Баграшов П. Учитель на колхозной стройке. С. 17; Фомичев А. Учительство Мечетинского района, как оно есть. С. 30-34.
.
Даже самый знаменитый критик сталинизма — Александр Солженицын — полагал, что учителя занимают промежуточное положение между активистами и жертвами режима. Из воспоминаний раскулаченных крестьян Солженицын выбрал типичный случай: председатель сельсовета с «понятой учительницей» вломился в дом к приговоренной к высылке беззащитной семье {117} 117 Солженицын А. Архипелаг Гулаг, в 3 т. Екатеринбург, 2006. Т. 3. С. 319.
. Учительница так и осталась свидетелем, в насильственных действиях по отношению к крестьянам участия не приняла.
Читать дальше
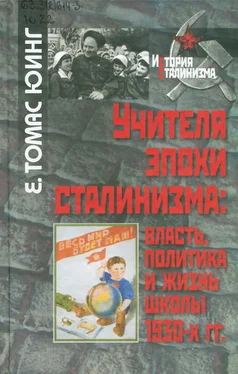






![Макс Вебер - Власть и политика [сборник]](/books/397458/maks-veber-vlast-i-politika-sbornik-thumb.webp)