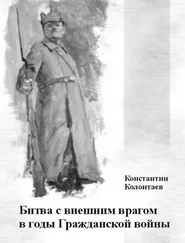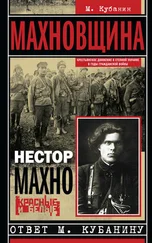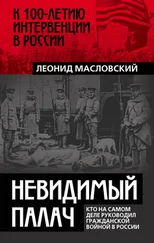Первыми, кто почувствовал дыхание надвигавшейся катастрофы, оказались находившиеся на фронтах первой мировой войны офицеры русской армии. "Общее настроение в армии делается с каждым днем все напряженнее, - сообщал в донесении от 29 марта 1917 г. главнокомандующему войсками Северного фронта командующий 5-й армией генерал А.М.Драгомиров, - аресты офицеров и начальников не прекращаются... были случаи отказа идти на позицию... крайне неохотно отзываются на каждый приказ идти в окопы, а на какие-либо боевые предприятия... нет никакой возможности заставить кого-либо выйти из окопов"{25}.
В свою очередь 9 апреля 1917 г. дежурный генерал Ставки Верховного главнокомандующего ходатайствовал перед начальником Генерального штаба "о принятии безотлагательных мер со стороны правительства, так как у развенчанной власти командного состава нет сил справиться с солдатской толпой, принявшей возвещенную им свободу... как право делать что угодно, игнорировать офицеров, всячески дерзить им, или неповиновением им, оскорблять их и даже арестовывать их и смещать с должностей"{26}.
С каждым днем обстановка на фронте становилась все напряженнее.
Запасы, созданные еще царским правительством, быстро иссякали, а новые необходимые для фронта ресурсы если и поступали, то с перебоями. Необходимость, с одной стороны, продолжения выполнения боевых задач, с другой - ширившаяся анархия в тылу и как следствие усугубление и без того тяжелого положения солдатской и офицерской массы на передовой неминуемо вели к расколу в войсках. Этому активно способствовала и сама революционная власть. Так, по выражению А.И.Деникина, "одним росчерком пера" нового военного министра, А.И.Гучкова было уволено с постов старших военных начальников 143 человека, в числе которых оказались 70 начальников пехотных и кавалерийских дивизий. По мнению одного из будущих вождей белого движения П.Н.Врангеля данная операция не могла не отразиться "на внутреннем порядке и боеспособности армии", а другого - А.И.Деникина, "подорвала веру в командный состав и дала внешнее оправдание комитетскому и солдатскому произволу и насилию над отдельными представителями командования"{27}.
Учреждение комиссии для проведения "демократизации армии" под председательством бывшего в 1915-1916 гг. военным министром генерала А.А.Поливанова, законопроекты которой прежде их утверждения в ней шли на согласование с солдатской секцией исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов и принятие по результатам ее работы так называемой "Декларации прав солдата и гражданина", привело не более чем к дальнейшему падению дисциплинарной власти командного состава.
Удивляет настойчивость, с которой члены Временного правительства занимались разрушением армии, ломая тем самым становой хребет российской государственности. Несмотря на то, что на одном из совместных заседаний членов правительства и высшего командования последним недвусмысленно было заявлено крайне негативное отношение к готовящемуся постановлению{28}, тем не менее, пресловутая Декларация была все же принята. Это обстоятельство привело к тому, что войска, спустя некоторое время, окончательно вышли из повиновения своим командирам.
Являлись ли действия Временного правительства непосредственной причиной крушения Российской империи или ответ на этот вопрос следует искать в крайней усталости всех слоев российского общества, вызванной непосильным бременем продолжавшейся третий год войны. Из двух вариантов консолидировать общество с целью противостояния внешней угрозе, может быть, отказавшись от некоторых радикальных лозунгов и пригласив к сотрудничеству деятельных сановников прежнего режима, либо спекулировать на его настроениях с тем, чтобы снискать себе симпатии наиболее слабых в культурном отношении слоев, революционная власть выбрала последнее. В таких условиях любая пораженческая агитация могла найти для себя благодатную почву. Таким образом, вскоре армия раскололась на два непримиримых лагеря - продолжавших несмотря ни на что выполнять свой долг защитника отечества и различного рода малодушный элемент, искавший только повода, чтобы уклониться от выполнения святой обязанности.
Хотя в первом лагере оказалось больше офицеров, а во втором солдат, было бы неправильным рассматривать раскол как произошедший исключительно между ними. И те и другие были в обоих лагерях. Однако желая поощрить первую группу, Временное правительство с подачи Ставки Верховного главнокомандования активно производило солдат различных ударных частей, создававшихся под летнее наступление 1917 г., в офицерское звание.
Читать дальше