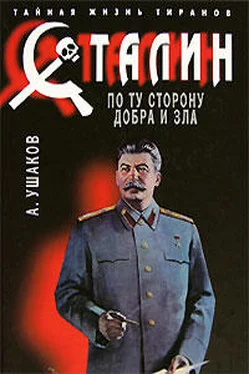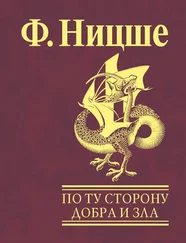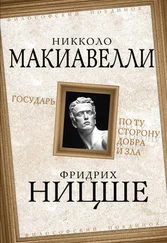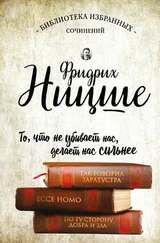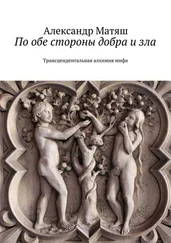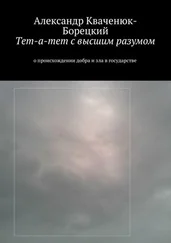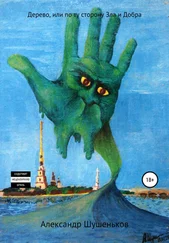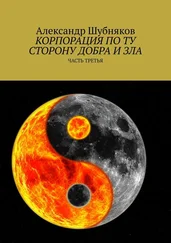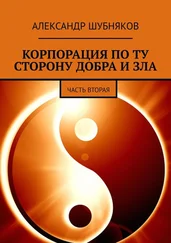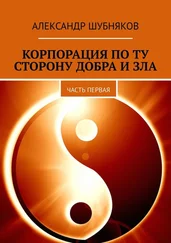И, как выяснилось, не зря. Стоило ему только покинуть в тот же самый день депутатскую квартиру Полетаева, как его арестовали и препроводили в тюрьму. А еще через полтора месяца приговорили к ссылке в Нарымский край Томской области под гласный надзор полиции сроком на три года.
Однако радость полиции была преждевременной. В Нарыме, где в то время существовало два бюро по содействию побегам, одно — эсеровское, а другое — социал-демократическое, Коба пробыл всего 38 дней. И уже 2 сентября полицейский надзиратель Титков докладывал: «Проверяя, по обыкновению, каждый день свой участок административно-ссыльных в городе Нарыме, сего числа я зашел в дом Алексеевой, где квартируют Джугашвили Иосиф и Надеждин Михаил, из них первого не оказалось дома. Спрошенная мною хозяйка квартиры Алексеева заявила, что Джугашвили сегодняшнюю ночь не ночевал дома и куда отлучился, не знает...»
В Петербург Коба попал в самый разгар избирательной кампании в IV Государственную думу и сразу же включился в работу. А затем Ленин попросил его приехать в Краков. Побывав на проходившем в конце 1912 — начале 1913 года в Кракове совещании ЦК РСДРП с партийными работниками, он уехал в Вену, где по поручению Ленина принялся за работу над статьей о национальном вопросе.
Доверие вождя значило для Кобы многое. Оно не только помогало ему закрепиться на хорошем счету у главного марксиста России, но и открывало известные перспективы на будущее, поскольку он был единственным разбиравшимся в национальном вопросе в окружении Ленина. И, по всей видимости, Коба явно грешил против истины, когда писал «другу» Малиновскому: «Пока сижу в Вене и пишу всякую ерунду». Впрочем, писал он эту «ерунду» не один, ему помогали Ольга Вейланд, которая блестяще знала немецкий язык и обеспечивала его материалами, и, как говорят, Н.И. Бухарин.
Однако никаким специалистом по национальному вопросу Коба не был. Как и Ленин, он считал главным вопросом русской революции аграрный вопрос. Вряд ли держал Кобу за теоретика и сам Ленин, и его скорее интересовало мнение человека, который столько лет проработал среди рабочих многих национальностей.
А вот сам национальный вопрос его уже не мог не волновать. И после переезда в австрийскую часть Польши в 1912 году он отмечал, что «национальный вопрос выдвинулся... на видное место среди вопросов общественной жизни России». Дело в том, что австрийские социал-демократы, стремясь противостоять разрушительному действию национализма, который угрожал ветхому имперскому зданию, на место права на самоопределение наций выдвинули принцип внетерриториальной культурной автономии. И именно культурная автономия должна была обеспечить политическую и территориальную целостность империи.
Согласно создателям этой теории Карлу Реннеру и Отто Бауэру, лица различной национальности независимо от места жительства должны были организовываться под руководством национальных советов для осуществления задач в области образования и других культурных целей. При этом политическое и экономическое единство монархии и ее управление оставались неизменными.
Таким образом, Бауэр подменил территориальную основу всякой национальности «личностным» принципом, гласившим, что каждый гражданин, где бы он ни проживал, вправе сам определять свою национальную принадлежность. Каждая нация может создавать собственные организации и институты для развития своей национальной культуры. Основой государства и его управления должны стать органы национального управления.
Этот порочный, с точки зрения Ленина, принцип ударил в первую очередь по самой австрийской социал-демократической партии, которая превратилась в федеративный союз национальных социал-демократических групп (немецкой, чешской, польской, русинской, итальянской и южнославянской). После чего последовало весьма туманное заявление о преобразовании Австрии в «федерацию народов».
И Ленин очень опасался того, что дурной пример окажется заразительным и сыграет плохую шутку с социал-демократической партией в России, где она изначально замышлялась как нефедеративный союз рабочих всех национальностей. Тем более что в России австрийские идеи в применении партийной и государственной организации по национальной принадлежности членов партии подхватили Общееврейский рабочий союз в России и Польше, больше известный под названием БУНД, и грузинские меньшевики.
Для Ленина было ясно, что национальная автономия в партии и культурная автономия для национальностей в государстве являются принципами одного и того же порядка. Потому он и говорил, что БУНД и некоторые социал-демократы Закавказья и Польши вместе с лозунгом «культурно-национальной автономии» пытаются навязать партии «федерацию худшего типа». И он нисколько не сомневался в том, что партия, получи она деление по национальному признаку, станет намного слабее. В равной степени это относилось и к самому государству.
Читать дальше