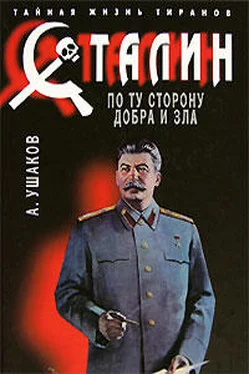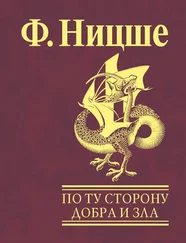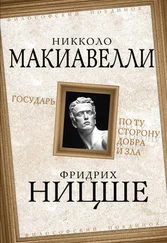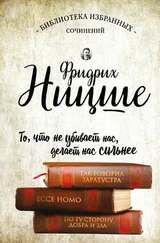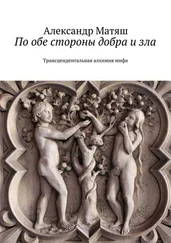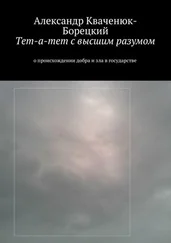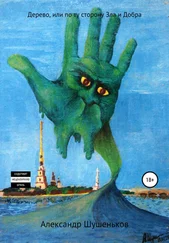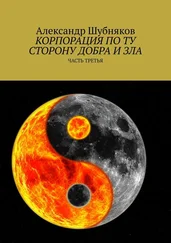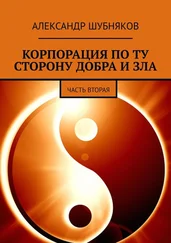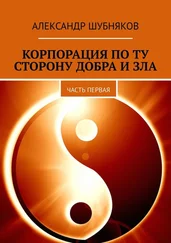А подобные вещи не забывались, особенно такими людьми, как Берия. И если называть вещи своими именами, то, по сути дела, Вознесенский попытался остаться чистым, в то время как практически все Политбюро было замазано кровью... Особенно если учесть, что в последнее время именно Берия чаще других конфликтовал с Вознесенским. И не мудрено! Берия требовал особых привилегий на нужды находившихся под ним наркоматов, а председатель Госплана стоял за равномерное распределение средств.
Вместе с Маленковым, которого угнетало то все большее доверие, которое Хозяин оказывал Вознесенскому, Берия попробовал «наехать» на Вознесенского еще в 1941 году за сделанный им на февральской партконференции доклад. Однако Сталин и ухом не повел. Чем вызвал еще большую ненависть к деятельному и способному Вознесенскому.
А вот в 1947 году, когда Вознесенский опубликовал книгу о военной экономике СССР, он ударил по нему посильнее. Книга была написана очень живо и интересно, в ней был использован совершенно новый для того времени материал. Надо ли говорить, что она стала заметным явлением в экономической жизни страны, и ее стали цитировать если и не больше, то уж, во всяком случае, ничуть не меньше самого Сталина. Что, конечно же, не могло понравиться «лучшему другу всех советских экономистов». И когда труд Вознесенского совершенно неожиданно для него самого и других ученых был объявлен антимарксистским, он с ужасом понял, как просчитался. Его книгу мог запретить только сам Сталин, который, кстати, читал ее в рукописи и дал разрешение на опубликование.
Не взлюбили Вознесенского и Каганович с Микояном, которые были недовольны его недостаточным знанием практики и чрезмерным увлечением теорией. Впрочем, Анастас Иванович обвинял его не только в амбициозности и высокомерии, но и в великодержавном шовинизме, который выражался в нетерпимом отношении Вознесенского к нерусским. Дело дошло до того, что сам названный Лениным «держимордой» Сталин как-то заметил, что Вознесенский — великодержавный шовинист, «для которого не только какие-то там армяне и грузины, но и братья по крови — украинцы — не являлись людьми». Что, впрочем, так и не помешало ему видеть в нем своего преемника на посту председателя Совмина.
* * *
Что же касается партии, то здесь Сталин очень надеялся на переведенного им из Ленинграда секретаря ЦК Кузнецова, считавшегося «человеком Жданова». «Будущие руководители, — заявил он как-то за обедом на Рице, кивая на сидевшего напротив Кузнецова, — должны быть молодыми. И вообще, вот такой человек может когда-нибудь стать моим преемником по руководству партией и ЦК».
Конечно, гости согласились. Но воспринимали ли они все эти заявления всерьез? Они не первый день знали вождя и его мстительный и подозрительный характер. Еще совсем недавно он прочил на свое место Молотова, но только где он теперь был, этот самый «Вячеслав». Да и они не сказали еще своего последнего слова...
В целом же и Вознесенский, и Кузнецов, как, во всяком случае, пишут о них братья Медведевы, были «честные люди, у которых все чаще возникали конфликты с такими деятелями из окружения Сталина, как Берия, Маленков, Ворошилов». Те платили им той же монетой и внимательно следили за всеми их телодвижениями, ожидая той сладкой минуты, когда кто-нибудь из них оступится. Не останавливало их даже и то, что над «ленинградцами» Кузнецовым и Вознесенским возвышалась фигура самого Жданова, который не любил Берию, считал Маленкова безграмотным временщиком и, намекая на его женоподобный облик, не называл его иначе, как «Маланьей».
Существует распространенное мнение, что расправа с «ленинградцами» стала возможной только после смерти Жданова. Тем не менее некоторые историки утверждают, что «ленинградское дело» готовилось еще при его жизни, и, если бы он не умер, то и ему пришлось бы сесть на скамью подсудимых. Причина? Да все та же: охлаждение к нему вождя, который резко отчитал его на одном из заседаний Политбюро, после чего потерял к нему интерес и, как уверяют некоторые исследователи, не знал, что с ним делать. Ведь в случае ареста Жданова, с именем которого были связаны все идеологические акции после войны, пришлось бы пересматривать все партийные постановления.
Думается, это не так. Сталин всегда знал, что делать с тем или иным человеком, особенно если он по каким-то причинам начинал ему мешать. Он так и не тронул по-настоящему ни Молотова, ни Ворошилова. Но при этом не надо забывать, что этих людей он знал еще до революции. И, убрав их, он остался бы совершенно один. Что же касается Жданова, то Сталина не связывали с ним десятилетия совместной работы, и вряд ли его остановили бы какие-то там постановления. При желании он мог уже переписать всю мировую историю, а не только советскую...
Читать дальше