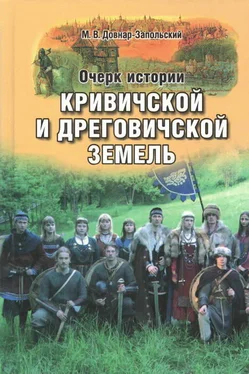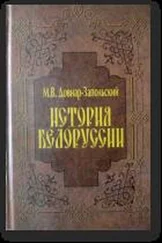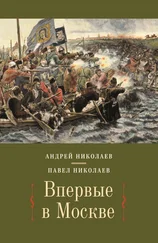Также весьма показательно наличие гидронимической «оси», соединяющей Латвию с северным Подмосковьем. Достаточно правдоподобно она связывается с «кривичским» течением как этноязычным элементом, который с течением времени «дебалтизировался» [73] Намного более полную картину могло бы дать дополнительное исследование гидронимии бассейна Двины. Предыдущие результаты (Катонова М. Данные гидронимии о балто-славянских контактах на севере Белоруссии // Балто-славянские исследования 1980. М., 1981, с. 177–184) имеют предварительный и фрагментарный характер, из чего проистекает и далеко неоднозначная их интерпретация. Повторный лингвистический анализ гидронимии региона с учетом новейших достижений науки вполне оправдан и перспективен.
.
Это обстоятельство позволяет отказаться от противопоставления в этническом смысле определений «кривичский» и «балтский», ибо априорная славянскость кривичей просто исчезает, а их славянское слагаемое (безразлично, откуда оно могло происходить) оказывается фикцией [74] Вот суждение В. Топорова: «Чрезвычайно интересно то, что понятие “славянский”, употребляемое в традиционном смысле, меняет (а отсюда и теряет) своё значение также и в свете ряда иных достижений последних лет в области реконструкции этнолингвистической карты Восточной Европы….Иначе говоря, для этой части Восточной Европы “славянский” элемент, как он понимался до сих пор, для определенной эпохи, когда балтский элемент был бесспорно актуальным, оказывается фикцией» (Топоров В. К вопросу о балтизмах в славянских языках (теоретический взгляд) // Latvijas PSR Zinātņu akademijas vēstis. 1973, № 2, с. 95).
. Появление надежных свидетельств славянского присутствия (в первую очередь археологических) на территории кривичей отодвигается таким образом в «русскую» эпоху, когда произошел взрыв торгово-ремесленной активности. Это обстоятельство заставляет рассматривать славянский элемент на наших землях уже не как результат реального миграционного движения откуда-то, а скорее как результат достаточно сложных межкультурных отношений.
И. Ляпушкин, основательно проанализировав памятники лесной и лесостепной зон Восточной Европы накануне образования «русского» государства, пришел к выводу, что «до VIII–IX веков вся область Верхнего Поднепровья и прилегающих к ней районов до верховий Оки на востоке и до Немана на западе, от границы с лесостепью на юге и до бассейна Западной Двины на севере, была занята балтскими племенами» [75] Близкой к этому суждению мысли придерживался М. Артамонов: «Вследствие того, что славянские памятники, которые определенно относятся к VIII веку, в Верхнем Поднепровье до сих пор не обнаружены, славянский период на этой территории (…) надо начинать с IX века» (Артамонов М. Некоторые вопросы отношений восточных славян с болгарами и балтами в процессе заселения ими Среднего и Верхнего Поднепровья. // Советская археология. 1974, № 1, с. 254).
.
Сравним, для примера, одно из последних мнений об этническом составе Верхнего Поднепровья и пространства далее на север: «Вследствие того, что трудно распознать разные свидетельства славянской экспансии на эти земли до конца IX века, в первые фазы своего существования русы /варяги-ruotsi. — Авт./ взаимодействовали прежде всего с финскими и балтскими группами» [76] Кальмер Ю. Археологические древности Руси // Stratum. 1999, № 5. Неславянское в славянском мире. // Кальмер допускает, что проникновение «руси» в Среднее Поднепровье и ее знакомство там со славянскими группами могло произойти уже в конце VIII — начале IX века. Соответственно в то же время могла начаться и славянизация «руси», которая в конце концов и превратила ее в основной фактор распространения элементов славянской культуры и языка на пространстве Восточной Европы.
.
Бесспорно, что в IX–XI веках произошли значительные изменения как в материальной, так и в духовной культуре здешних обитателей, но объяснение этих трансформаций исключительно поиском следов «массовой славянской миграции» выглядит как упрощенный и ангажированный подход.
Понятно, что наличие определенного вещевого инвентаря и возникновение новой похоронной традиции — это достаточно весомые свидетельства влияния другого этноса. Тем не менее, время от времени звучат голоса исследователей, рекомендующих рассматривать распространение конкретных изделий именно как распространение изделий (через торговлю, заимствование, культурное влияние, моду и т.д.), вместо того, чтобы делать поспешные выводы о миграции людей. Мода и культурные течения не обходят стороной даже похоронный ритуал (как и вообще обычаи), который тоже может заимствоваться от этноса к этносу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу