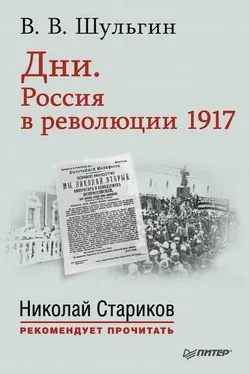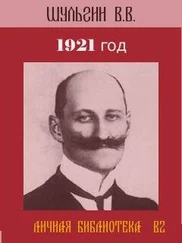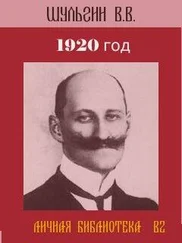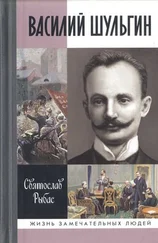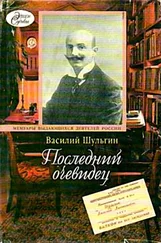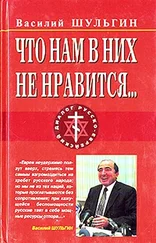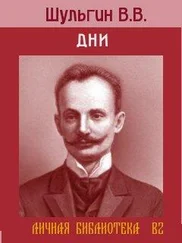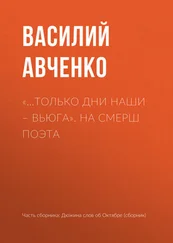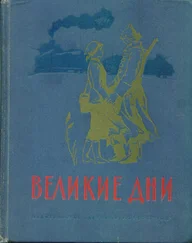– Зачем?
– Товарищи-переплетчики желают низложить царя, да и все остальные, кажется… Отречения им мало.
– Ну, а потом?
– Потом депутат Лебедев передал мне акт, я потихоньку закоулками на другую сторону, да и дал тягу.
– А Гучков? А другие депутаты?
– Не знаю.
– Я сейчас буду разговаривать с Родзянко, а вы, господа, узнайте, что с депутатами. ’
Комиссары заперлись, а мы пошли к себе. Акт отречения не давил даже, а жег мне левый бок. По телефону сообщили, что Гучкова выпустили и что он с Шульгиным и Лебедевым и Лебедевым уехали в Думу.
С этим известием я вошел к комиссарам. Они представляют полную противоположность. Спокойный, даже, скажу, безразличный, эпикуреец Добровольский, одетый как модная картинка, рассеянно рассматривал свои ногти. Бубликов, растерянный, неряшливо одетый, с отекшим от бессоницы лицом бегал по комнате, сверкал глазами и произносил проклятия как язычник.
С их слов, довольно бессвязных, я понял, что в городе положение примерно такое же, как на вокзале. Большинство рабочих против отречения. С раннего утра, вернее с ночи, в Думе между Комитетом и Советом идут об этом горячие споры. Совет усилен “солдатскими” депутатами.
– Грамоту ищут по всему городу. Возможно, и сюда придут. Где она? – спросил Добровольский.
– У меня в кармане.
– Это не годится. Надо спрятать.
– Положить в несгораемый шкап. Приставить караул.
– Нет, положить в самое незаметное место… и не в этой комнате…
Конечно, сохранение этой грамоты или ее уничтожение положения не изменит, но все-таки… Во-первых, отречение освобождает войска от присяги… Во-вторых, ее уничтожение окрылит черные силы.
– А не снять ли нам, Анатолий Александрович, с акта несколько копий?
– Пожалуй, но только, чтобы никто ничего не знал. Составим Комитет спасения “пропавшей грамоты” из трех.
– Нет, из четырех. Лебедев ее спас.
– Правильно, позовите его сюда.
Пришел Лебедев, ему объявили положение, и мы с ним отправились снимать копию в секретарскую. А комиссары начали принимать доклады разных учреждений министерства. Лебедев диктовал, я писал. Когда копия была готова, я позвал комиссаров в секретарскую. Мы все вчетвером заверили копию, а подлинник спрятали среди старых запыленных номеров официальных газет, сложенных на этажерке в секретарской.
– Ну, теперь по копии можно начать печатание, – сказал я.
– Нет, надо спросить Думу, – возразил Добровольский.
– Зачем? Ведь чем скорей грамота будет напечатана, тем скорее весь этот шум прекратится. Да и при том набор, корректура, печать – все это потребует времени. А кроме того, наборщики ждут.
– Нет, надо спросить.
Через несколько минут последовал приказ: “не печатать, но наборщиков не распускать”. (Ломоносов. «Воспоминания», с. 57, 59, 60).
160. По словам Набокова, который пришел на Миллионную уже после совещания «с общественными деятелями» в третьем часу:
«На лестнице дома № 12 стоял караул Преображенского полка. Ко мне вышел офицер, я себя назвал, он ушел за инструкциями и, тотчас же вернувшись, пригласил меня наверх». (Набоков, «Временное Правительство», с. 26).
161. По словам Милюкова, при отречении Михаила присутствовали: кн. Г. Е. Львов, П. Н. Милюков, А. Ф. Керенский, Н. В. Некрасов, М. И. Терещенко, И. В. Годнев, В. Н. Львов, А. И. Гучков, М. В. Родзянко, В. В. Шульгин, И. Н. Ефремов, М. А. Караулов. (Милюков, «История второй русской революции», т. I, в. I, с. 54). Шульгин в своих записках не указывает М. А. Караулова и И. В. Годнева, приведенных у Милюкова, хотя и говорит при перечислении присутствующих лиц, что были «и другие».
В список присутствующих Шульгин включает Ржевского, Бубликова и Шидловекого. Относительно Бубликова существует определенное указание в «Воспоминаниях о мартовской революции 1917 г.» Ломоносова, что Бубликов в это время был в министерстве путей сообщения, Ломоносов же указывает, что в это время на Миллионной находился Лебедев, привезший туда копию акта об отречении из министерства путей сообщения.
162. По словам Шульгина, порядок высказывавшихся был такой, хотя Шульгин и оговаривается: «я не помню всех речей»: Милюков, Керенский, Гучков, Шульгин.
По словам Милюкова, заседание шло таким образом: «Необходимость отказа пространно мотивировал М. В. Родзянко, после него А. Ф. Керенский. После них П. Н. Милюков развил свое мнение, что сильная власть, необходимая для укрепления нового порядка, нуждается в оплоте привычного для масс символа власти. Временное Правительство одно, без монарха, говорил он, является “утлой ладьей”, которая может потонуть в океане народных волнений, стране при этих условиях может грозить потеря всякого сознания государственной силы и полная анархия раньше, чем соберется Учредительное Собрание. Временное Правительство одно до него не доживет и т. д. За этой речью, вопреки соглашению, последовал ряд других речей в полемическом тоне. Тогда П. Н. Милюков просил и получил, вопреки страстному противодействию Керенского, слово для второй речи. В ней он указывал, что хотя и правы утверждающие, что принятие власти грозит риском для личной безопасности великого князя и самих министров, но на риск этот надо итти в интересах родины, ибо только таким образом может быть снята с данного состава лиц ответственность за будущее. К тому же вне Петрограда есть полная возможность собрать военную силу, необходимую для защиты великого князя. Поддержал П. Н. Милюкова один А. И. Гучков. Обе стороны заявили, что в случае решения, несогласного с их мнением, они не будут оказывать препятствия и поддержат правительство, хотя участвовать в нем не будут». (Милюков, «История второй русской революции», т. I, в. I, с. 54).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу