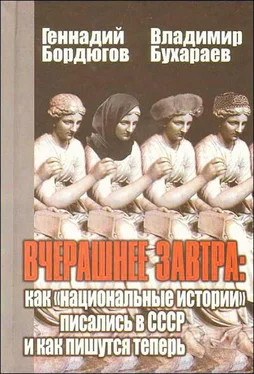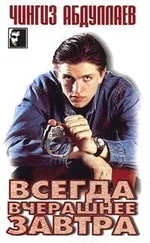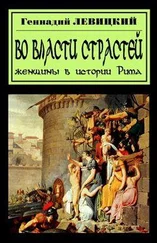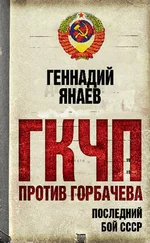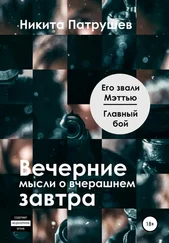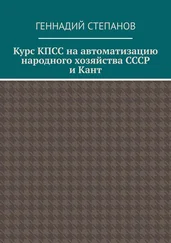В многонациональной Литве, однако, четкой ориентации на мультинационализм в историознании не наблюдается. В то же время известно, что заниматься изучением истории татар и караимов, проживающих в Литве со времен короля Миндаугаса, в исторической среде является весьма престижным. В современной Литве наблюдается больший интерес к истории новейшего времени и современности, нежели к медиевистике, когда Великое княжество Литовское являлось одним из крупнейших и мощнейших государств в Европе, что выглядит алогичным. Ведь за счет богатой и славной средневековой истории, по примеру Казахстана, литовцы могли бы вести успешные межкультурные коммуникации. Тем не менее результаты социологического исследования 2007 года (опрашиваемые отвечали на вопрос «Какой исторический период Вам как литовцу (гражданину Литвы) кажется наиболее существенным?») показывают, что 68,5% опрошенных заинтересованы в нынешнем времени, 35% — периодом Литовской Республики (1918–1940), 32% — советскими временами, 26% — эпохой национального возрождения с конца XIX века. «Литву князей» обозначали только 25,5% участников исследования {95} 95 Шепетис Нериюс. Отсутствующая «национальная история» Литвы // Национальные истории на постсоветском пространстве — П. С. 161.
.

Открытие Дворца Правителей Литвы. 2009 г.
При всей «европейскости» Литвы и, казалось бы, склонности к межкультурному диалогу, в этой балтийской республике реализуются проекты, указывающие на этноцентристскую направленность нового историознания. Ее материальным воплощением является государственный проект по «восстановлению» Дворца Правителей Литвы — части комплекса Нижнего замка, которая служила и как резиденция великих князей Великого Княжества Литовского (ВКЛ) — королей Польши — во время их пребывания в Вильнюсе до середины XVII века. По мнению Н. Шепетиса, этот Дворец ныне представляется как символ долговечной литовской (в этническом смысле) государственности, но он был разрушен во время оккупации города московскими войсками (1655), умышленно разрушен «царской властью» после аннексии территории нынешней Литвы после 3-го раздела Речи Посполитой (РП). Но на самом деле это здание никогда не имело такого исторического смысла, да и понятие самостоятельности («равноправия») ВКЛ в составе РП не обладало «национальным» в сегодняшнем понимании характером. Здание потеряло прежнее значение в эпоху упадка государства и разваливалось само по себе, действия московских войск или российской власти не были фатальными. Самое важное, что здание нельзя восстановить, если отсутствуют аутентичные планы и чертежи, если есть только несколько рисунков более позднего времени. Несмотря на эти и другие аргументы историков и других специалистов, Дворец в последние 7 лет строится и устраивается в основном за деньги, и притом большие деньги из государственного бюджета {96} 96 Там же. С. 163–164.
.
Для соседней с Литвой Латвии, как и для некоторых других стран постсоветского пространства, характерно появление двух противоборствующих групп историков, где для одних советская государственность является «провалом», «черным пятном» в национальном бытии, а для других — вполне легальной частью национальной истории. Одни стремятся к «национализации» истории, другие — к мультикультурности. Для первых «разрыв» компенсируется наличием национально-освободительного движения (сюда попадают любые формы сопротивления «чужим» режимам — от культурной фронды до партизанского движения), для вторых — разрыва не существует. В Латвии «бои за историю» являются внутренними боями, где противоборствующие стороны представляют собой различные части одного общества. «Перед нами, — пишет Виктор Макаров, — своеобразный треугольник, в котором, с одной стороны, есть латвийская официальная, поддерживаемая большей частью латышско-язычного населения версия истории, с другой стороны, «контрверсия», которую поддерживает другая часть жителей Латвии, наконец, с третьей стороны, версия истории Латвии, какой она видится вне Латвии» {97} 97 Макаров Виктор. «Бои за историю» в Латвии // Национальные истории на постсоветском пространстве — П. С. 148.
.
Универсальная формула национальной истории в Азербайджане сейчас следующая: история должна соответствовать текущему моменту, иметь прообраз в достижениях прошлого, а любые возможные апелляции к прошлому должны находить удовлетворительное объяснение в новом историческом знании. Принцип подачи материала в исторической литературе, подходы к оценке тех или иных событий избираются с позиций того, какое значение они имели для азербайджанской государственности. Понятие «национальные историки» предполагает лишь историков, творчество которых протекает в Азербайджане, независимо от того занимаются ли они «национальной историей» или историей других стран {98} 98 См.: Исмаилов Эльдар, Нифталиев Ильгар. Проблемы развития национальной истории в Азербайджане // Национальные истории на постсоветском пространстве — П. С. 201–210.
.
Читать дальше