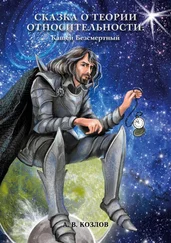Виденье Лейбницем «относительности» пространства и времени было весьма глубоким и, как мы увидим, по-прежнему остается актуальным. В письмах к Кларку-Ньютону Лейбниц привел несколько аргументов в пользу своей концепции. Его возражения ньютоновскому мировоззрению были основаны на ненаблюдаемости абсолютного времени, абсолютного пространства или абсолютного движения. Именно свойство ненаблюдаемости станет одним из основных постулатов, положенных Эйнштейном в основу новой теории в 1905 г.: принципом относительности.
Основную идею, которая стоит за этим принципом, можно найти уже у Галилея. Галилей, конечно, не мог пользоваться термином «принцип относительности», появившимся позже. Но он дал ему весьма явную, хотя и очень интуитивную формулировку в своих диалогах, касающихся двух главнейших систем мира. В них Галилей предлагает читателям закрыться в трюме корабля и в этом замкнутом пространстве без возможности смотреть по сторонам понаблюдать за ходом разных явлений. Он предлагает, например, представить, как летают мухи или бабочки или как опустошается бутылка, капля за каплей, в вазу, помещенную под ней. Когда судно находится в состоянии покоя, бабочки порхают во всех направлениях, не отдавая предпочтения каким-либо определенным направлениям, а капли из бутылки падают вертикально вниз. Затем Галилей просит читателей повторить те же наблюдения, когда судно движется со сколь угодно большой скоростью, при условии, что это движение является равномерным, т. е. при постоянной по величине и направлению скорости, без рывков и изменения курса. По его словам, явления, наблюдаемые в трюме, будут происходить в точности так же, как если бы судно находилось в состоянии покоя. Независимо от скорости движения корабля бабочки будут порхать во всех направлениях, не отдавая предпочтения какому-либо конкретному направлению, и капли всегда будут падать точно вертикально.
Другими словами, равномерное движение корабля как целого невозможно обнаружить участвующему в этом движении наблюдателю, который может наблюдать только то, что происходит внутри корабля. Современный читатель может применить описание Галилея к современным видам транспортных средств. Например, можно представить перелет на самолете с закрытыми иллюминаторами, где (в отсутствие турбулентности!) невозможно обнаружить движение самолета, наблюдая за происходящими внутри явлениями. Галилей резюмировал принцип относительности в краткой формулировке: «движение неотличимо от покоя». Понятно, что речь идет о равномерном движении (т. е. с постоянной скоростью и по прямой линии). Имея это в виду и зная, что невозможность установления равномерного движения следует из аксиом Ньютона, посмотрим, что говорит Лейбниц:
«Могли бы возразить, что реальность движения не зависит от наблюдения и что корабль может двигаться без того, чтобы тот, кто находится внутри, его замечал. Отвечу я, что движение не зависит от наблюдения, однако оно не является независимым от возможности наблюдения. Там нет никакого движения, где нет наблюдаемых изменений».
Эта настойчивость Лейбница (которую он возводит в свой основной принцип идентичности неразличимого) в отношении необходимости критерия наблюдаемости любой предполагаемой реальности весьма современна; возможно, именно он вдохновил Эйнштейна предложить новую точку зрения в 1905 г. Однако возражения Лейбница не впечатлили сторонников ньютоновского учения. Кроме того, следует признать, что в сравнении с монументальным синтезом Ньютона, который объяснил основные особенности механики Солнечной системы и позволил математически формализовать постоянно растущее число физических явлений, подход Лейбница, несмотря на свою концептуальную ясность и привлекательность, мало что мог предложить с точки зрения практического описания физических явлений. Однако критика Лейбница в отношении концепции абсолютного пространства и времени, а также абсолютного движения продолжает (возможно, подспудно) свой путь развития в умах людей. В частности, она выходит на поверхность (в новой форме) в трудах австрийского физика и эпистемолога Эрнста Маха, которого Эйнштейн читал и комментировал с большим интересом в Берне в кругу членов своего клуба дискуссий «Олимпийская академия» {12} 12 Эйнштейн и двое его друзей, Морис Соловин и Конрад Габихт, регулярно встречались по вечерам, чтобы разделить скромную вечернюю трапезу, а также почитать и обсудить философские и эпистемологические работы. Шутки ради, они называли этот неофициальный клуб дискуссий «Олимпийской академией».
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
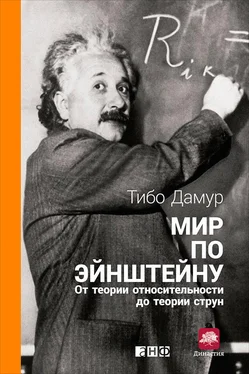

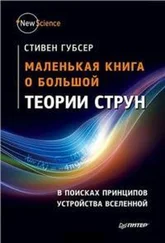


![Коллектив авторов - Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной [litres]](/books/414554/kollektiv-avtorov-proishozhdenie-vselennoj-kak-s-p-thumb.webp)