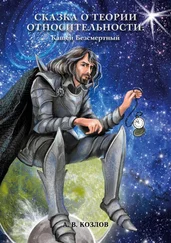Дойдя до этого этапа рассуждений Эйнштейна, все физики его времени должны были возразить: «Это абсурд! Согласно хорошо известному закону сложения скоростей, скорость света в движущейся системе отсчета должна быть суммой его скорости в системе покоя и скорости движения движущейся системы как целого. И эта сумма никогда не может быть равна 300 000 км/с». Но тогда, объясняет Эйнштейн, по сути {23} 23 Мы допускаем некоторую вольность, описывая содержание статьи Эйнштейна, уважая тем не менее логический порядок, которому он следовал.
«хорошо известный закон сложения скоростей» является на самом деле лишь следствием молчаливого предположения о поведении законов и часов, находящихся в движении. Таким образом, эти предположения a priori не являются достоверными. Вспомним приведенный выше пример бабочки в трюме корабля. Если внимательно, шаг за шагом, разобрать этот пример, где корабль продвигается на «1 м/с», тогда как бабочка продвигается на «2 м/с», то мы увидим, что нужно сделать три независимых предположения для вычисления скорости бабочки по отношению к причалу. Для начала необходимо предположить, что расстояние в два метра, преодолеваемое бабочкой в трюме , эквивалентно расстоянию в два метра на причале . Затем нужно предположить, что продолжительность одной секунды, проведенной в трюме , эквивалентна продолжительности одной секунды, проведенной на причале . И наконец, что трюм и причал можно рассмотреть «в одно и тот же мгновение», т. е. понятие одновременности одинаково в трюме и на причале. Итак, по словам Эйнштейна, a priori нет оснований считать, что некоторый эталон, определяющий один метр при использовании в системе покоя, по-прежнему выглядит как предмет, имеющий длину один метр, если смотреть на него в движении. Аналогично, a priori нет оснований считать, что секундный интервал на часах, используемых в системе покоя, имеет ту же продолжительность в движении. И наконец, с помощью простых рассуждений Эйнштейн показывает, что если во всех системах отсчета установить одновременность событий, используя процесс синхронизации удаленных часов посредством обмена световыми сигналами (предположительно распространяющимися с фиксированной скоростью 300 000 км/с), то два события, происходящие «одновременно» в движущейся системе отсчета, не являются одновременными относительно системы покоя (и наоборот).
Расшатав, таким образом, многовековые представления о пространстве и времени, Эйнштейн показывает далее, как сконструировать новые представления . Для этой цели он использует те мощные средства, которые вытекают из самого принципа относительности. Требуя точного выполнения этого принципа, он заключает, каким образом должен восприниматься эталонный метр в движении для неподвижного наблюдателя, с какой кажущейся частотой отсчитывают секунды движущиеся часы по сравнению с часами в покое и как изменяется понятие одновременности для двух систем, находящихся в относительном движении. В результате он получает ряд математических формул, связывающих координаты пространства и времени одного и того же события (длину, ширину, высоту и датировку) согласно восприятию в системе покоя и в системе, находящейся в равномерном движении {24}. Возможно, Эйнштейн не знал, что эти математические формулы были написаны до него, в частности Лоренцом, и что они были детально изучены Пуанкаре {25}. Едва ли это важно. Существенным моментом является то, что у Эйнштейна уравнения приобрели совершенно новый физический смысл. Действительно, никто из современников Эйнштейна не ставил под сомнение понятие ньютоновского абсолютного пространства-времени. Для них среди различных переменных, входящих в эти уравнения, лишь длина, ширина, высота и время в системе покоя, связанной с абсолютным пространством (и эфиром), представляли настоящие координаты пространства и времени. Другие переменные были либо кажущимися координатами, либо просто вспомогательными величинами. Позднее мы вернемся к этому важному различию между Эйнштейном и его оппонентами.
После получения уравнений, связывающих пространственно-временные координаты одного и того же события в двух разных системах отсчета, Эйнштейн обсуждает их физическую интерпретацию, а затем выводит модифицированную форму закона сложения скоростей в своей новой теории. Наконец, он убеждается, что в новом законе «добавление» произвольной скорости, «не превышающей пороговой», к скорости света по-прежнему дает скорость, равную (по абсолютной величине) скорости света. Таким образом, круг замыкается: Эйнштейн демонстрирует совместимость принципа относительности и того принципа, в соответствии с которым свет всегда распространяется с одинаковой скоростью. Кроме того, все это теоретическое рассуждение (так же, как и остальная часть статьи) делает абсолютно «излишним» введение понятий «световой эфир» и «абсолютное пространство». Эйнштейн больше к этому не возвращается, однако такое простое замечание подписывает смертный приговор понятиям, считавшимися «очевидными» всеми его современниками.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
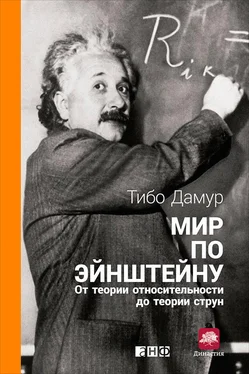

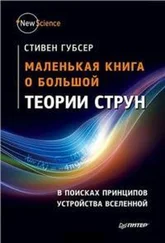


![Коллектив авторов - Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной [litres]](/books/414554/kollektiv-avtorov-proishozhdenie-vselennoj-kak-s-p-thumb.webp)