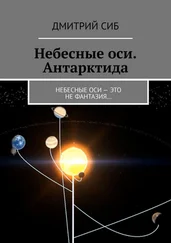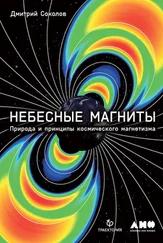Мы уже говорили, что на галактическом диске видны более яркие спирали – спиральные рукава. Из-за этого такие галактики и называются спиральными. Астрономы привыкли обозначать местоположение данного кусочка галактики по имени спирального рукава. Например, мы сами живем в рукаве Ориона, хотя по поводу того, что именно он представляет собой, астрономы ожесточенно спорят (не всегда ограничиваясь нормативной лексикой).
Однако все, что мы сейчас знаем о магнитных полях галактик, свидетельствует в пользу того, что они связаны именно с диском, а не с отдельными рукавами.
Другие, внешние спиральные галактики расположены далеко от нас, поэтому от наблюдений ускользают детали строения их магнитных полей, зато хорошо видно, как устроено магнитное поле в целом. Мы сами живем внутри Млечного Пути, и нам легче получать информацию о том, что происходит в нашей окрестности.
С точки зрения астрономии изучение Млечного Пути и внешних галактик – разные разделы этой науки, каждая со своими традициями. В таком разделении есть свой резон: уж очень по-разному приходится наблюдать Млечный Путь и внешние галактики. Но человеку, не занимающемуся наблюдениями, а обдумывающему их результаты, иногда трудно приспособиться к такому разделению. Приведу пример. С точки зрения наблюдателя внешних галактик, их северное полушарие – то, в которое смотрит вектор угловой скорости галактики (напомним: она вращается). А с точки зрения наблюдателя Млечного Пути, северным является то полушарие, которое лучше видно из Москвы, Нью-Йорка, Лондона и Парижа. Однако если посмотреть на Млечный Путь со стороны (мысленным взором, конечно), то полушарие, которое называлось северным, станет южным. Про этот факт молчат учебники: он неинтересен их авторам. О нем можно узнать только из личного разговора с квалифицированным астрономом. Я, например, узнал, когда возвращался с научной конференции в Нижнем Новгороде, который тогда еще назывался Горьким, и поднимался в вагон поезда. Я, конечно, упал бы от удивления под колеса, если бы знакомый не оказался гуманистом и не удержал меня от этого.
Так вот, магнитное поле Млечного Пути выглядит вблизи совсем не так, как магнитное поле внешней галактики. Конечно, есть что-то общее, но раньше мы говорили о среднем магнитном поле. В Млечном Пути заметно, что на это среднее поле наложены очень существенные неоднородности. Их амплитуда раза в два превышает его, а пространственный масштаб раз в 50 меньше, чем масштаб среднего поля. Пожалуй, даже хорошо, что эта сильная рябь так смазывается при наблюдении далеких галактик, иначе очень непросто было бы разобраться, как выглядит эта картина в целом.
Кстати, каково же магнитное поле по величине? Несколько микрогаусс. Далее стоит поговорить о единицах, в которых оно измеряется.
В школе нас учат пользоваться системой СИ [5] Международная система единиц, СИ (от фр. Système international d'unités, SI) – система единиц физических величин, современный вариант метрической системы. – Прим. ред.
, в которой магнитное поле измеряется в теслах. Хороший совет, но трудно приложимый ко всем случаям жизни. Проблема в том, что космические среды очень сильно отличаются от норм лабораторной физики и техники, для которых вырабатывалась система СИ и другие системы единиц.
С точки зрения школьной физики, например, расстояния измеряются в метрах, причем неважно, по какой оси отложены эти метры. С точки зрения астрономии дело обстоит совершенно по-другому. Легко измерить угол между двумя направлениями, а вот расстояние – очень трудно. Один из методов связан с наблюдением параллакса, то есть небольших перемещений, которые за год совершает на небе изображение далекой звезды из-за обращения Земли вокруг Солнца. Так возникает внесистемная единица длины – парсек, то есть расстояние, на котором параллакс составляет секунду дуги. Эта единица помнит о том, с каким способом измерения расстояния она связана. Астроном сделает все возможное, чтобы не переводить без надобности парсеки в метры.
Примерно так же обстоит дело и с магнитным полем. В школе учат, что мы должны четко различать напряженность магнитного поля и магнитную индукцию. Они отличаются на величину магнитной проницаемости, которая в ферромагнетиках может достигать тысяч, – приходится ее учитывать.
Не могу не рассказать поучительной истории. Начальству раз пришло в голову, что хорошо бы, чтобы аспирантские экзамены на каждой кафедре принимали бы не только ее сотрудники, но и люди с других кафедр. Вот мне и говорят: «Пойди на кафедру магнетизма и поучаствуй там в этой работе. Ты ведь магнетизмом занимаешься, хоть и другим». Пришел я туда, экзаменуют аспиранта, видимо плохого. Говорят ему: «Скажи хоть, что более фундаментальное понятие – магнитная индукция или напряженность магнитного поля?» Сижу как оплеванный. С одной стороны, магнитная индукция важнее, она определяет работу, например, магнита. С другой – магнитная проницаемость – макроскопическая характеристика вещества. В микромире ее нет, там только напряженность. До сих пор не знаю, какой ответ правильный, – и аспирант тоже не знал.
Читать дальше
![Дмитрий Соколов Небесные магниты. Природа и принципы космического магнетизма [litres] обложка книги](/books/438425/dmitrij-sokolov-nebesnye-magnity-priroda-i-princi-cover.webp)
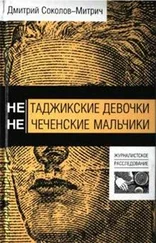
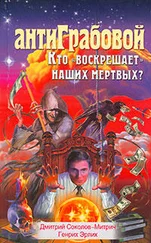
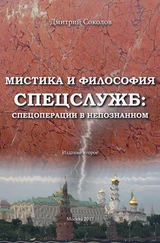
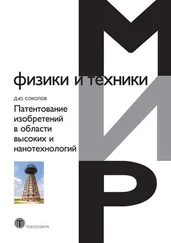

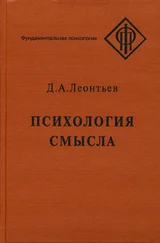
![Рэй Далио - Принципы. Жизнь и работа [litres]](/books/397314/rej-dalio-principy-zhizn-i-rabota-litres-thumb.webp)
![Александр Эткинд - Природа зла. Сырье и государство [litres]](/books/405096/aleksandr-etkind-priroda-zla-syre-i-gosudarstvo-thumb.webp)