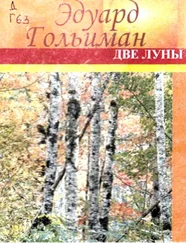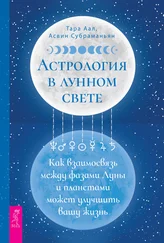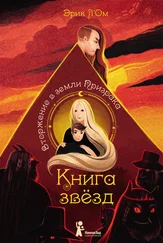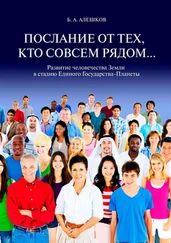Марс существует в динамической тени планет-гигантов. В первоначальной модели Ниццы, где 3,9 млрд лет назад Юпитер и Сатурн мигрировали через точку орбитального резонанса 2:1, землеподобные планеты, особенно Марс, остались на возмущенных орбитах. Это считалось недостатком модели, что привело к появлению описанного выше сценария «прыгающих Юпитеров». Но, с другой стороны, сильно возмущенная орбита Марса может быть прекрасным объяснением для свидетельств наличия там в прошлом потоков жидкой воды даже в отсутствие массивной атмосферы – при том условии, что в итоге планета сместилась на свою нынешнюю, менее возмущенную орбиту.
Сегодня эксцентриситет орбиты Марса равняется 0,1; другими словами, в перигелии он приближается к Солнцу на 1,4 а.е., а в афелии отдаляется на 1,7 а.е. В перигелии планета получает на 45 % больше тепла, чем в афелии, что вносит вклад в сложный сезонный цикл. Что, если в прошлом Марс имел значительно больший эксцентриситет, например, 0,3? Тогда бы он ходил от 1,1 а.е., где в течение примерно шести месяцев получал почти столько же тепла, как Земля, до 1,9 а.е. во время долгой, чрезвычайно холодной зимы, длящейся около 15 месяцев. Это чередование замерзания и оттаивания запустило бы мощные гидрологические процессы, которые растопили бы вечную мерзлоту и ледяные шапки, вызвав катастрофические затопления северных низин. Так бы продолжалось до тех пор, пока не кончился весь этот карнавал.
Сумасшедшая идея? Возможно, ведь нам нужно еще объяснить, как Марс снова стал «нормальной» планетой с эксцентриситетом 0,1. Но эта гипотеза ничем не безумнее предположения об атмосфере с давлением в два бара, исчезнувшей безо всякого следа. И такой Марс все же двигался бы немного менее странно, чем его аналог, создавший Луну согласно стандартной модели гигантского столкновения, – так что судите сами, повезло ли Марсу и не повезло ли Тейе.
* * *
На сегодняшний день орбиты основных планет стабильны во временном масштабе миллиардов лет. За последние 2 или 3 млрд происходили только относительно небольшие столкновения – например, то, из-за которого вымерли динозавры. Астероиды километрового диаметра ударяют Землю примерно раз в миллион лет, формируя импактные кратеры и океанские впадины. Иногда астероид или комета распадаются во внутренней Солнечной системе, вызывая череду мелких столкновений. Стометровые околоземные объекты врезаются в нашу планету каждые плюс-минус 30 000 лет. Большинство из них оставляют ямы диаметром в несколько километров на океанском дне, а остальные лежат никем не обнаруженные в джунглях или под осадочными породами.
По совершенно понятным причинам нам интересно, где и как возникнет следующий геологически значимый кратер, но на этот вопрос, к сожалению, существует только статистический ответ, потому что на отрезках времени более 300 лет положение любого объекта, регулярно проходящего близко от Земли и Луны, является хаотическим, а в обозримом будущем никаких событий не предвидится. Только вдумайтесь: вероятность того, что любой из известных астероидов врежется в Землю, меньше, чем вероятность того, что какой-либо случайный астероид того же размера поразит нас до этого [264]. Это примерно все, что мы можем сказать.
Сегодня на то, чтобы исследовать и понимать околоземные объекты, тратится очень много усилий, но еще 50 лет назад ими мало кто занимался или осознавал связанную с ними опасность. Считалось, что ямы на Луне возникли целые эоны назад. Астрономы, многие из которых были любителями, собирали астероиды как марки, как курьезы, которым можно дать имя. Только немногие воспринимали их как основной объект своих исследований. Кометы привлекали больше внимания. Они были экзотическими пришельцами с постоянно меняющейся активностью, позволяющими получать поразительные спектроскопические данные во время своих зрелищных проходов. На Земле тогда было известно всего несколько ударных кратеров, в том числе Аризонский кратер, и немногие крупные образования вроде Попигая в России [265]. Что еще важнее, до 1990-х гг. мы не видели ни одного изображения астероидов; они были для нас просто точками в небе, под стать своему названию, которое в переводе с латыни значит «подобные звездам».
Интерес к астероидам со стороны большой науки пришел из неожиданной области – из седиментологии, и тут нужно вернуться к меловому периоду. Каждый год Землю поражают 20 000 тонн осадочных пород космического происхождения, по большей части – в виде метеороидов размером от пылинки до гравия, ударяющих в верхние слои атмосферы. Метеороиды валунной размерности проникают глубже, взрываясь на высоте 50–80 км и распадаясь на пыль и мелкие фрагменты (метеориты). Частицы космической пыли тормозятся до того, как слишком сильно нагреются, так что они снижаются на земную поверхность в относительно неизменном состоянии [266]и вносят свой вклад в космическое загрязнение вашей крыши [267].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
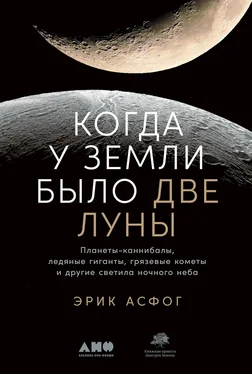

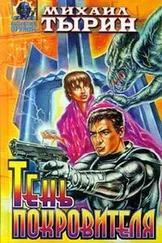
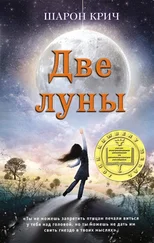
![Эрик Л’Ом - Вторжение в земли Призрака [litres]](/books/423004/erik-l-om-vtorzhenie-v-zemli-prizraka-litres-thumb.webp)