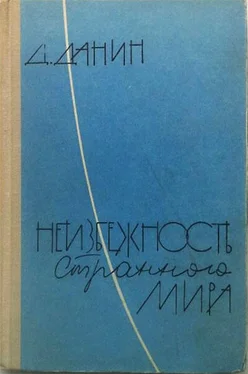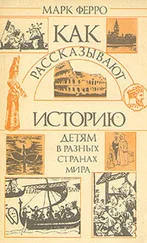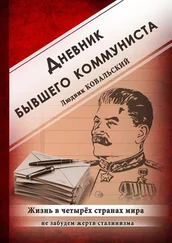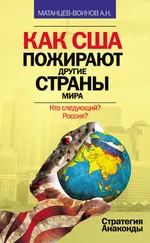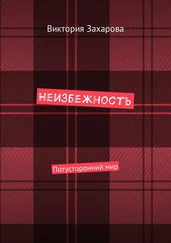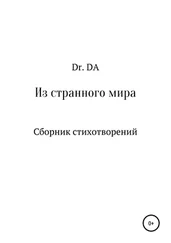Все это приятные образы. Даже красивые. Но они ничего не говорили и не говорят о физической сущности самого эфира. Что он такое? Каково его строение? Всепроникающий, может быть, он подобен газу? Но тогда он, конечно, способен сжиматься и расширяться? Так отчего же свет распространяется в нем с одинаковой скоростью всюду, если плотность его не всюду и не всегда одинакова? А несжимаемый, он был бы твердым телом, но ведь сквозь него должны беспрепятственно двигаться другие тела. Как же быть? Весомый он или невесомый? Если весомый… Все каверзы начинаются сначала.
Десятки вопросов, один мучительнее другого, возникали перед физиками. И они без конца строили теории эфира, все более хитроумные и все менее понятные. Предтеча Эйнштейна по теории относительности, замечательный физик Лоренц досадовал в 1902 году, что эти теории не приносят никакого удовлетворения.
К тому времени эфир стал представляться физикам бестелесным призраком, да еще абсолютно покоящимся. Другого выхода не оставалось: модель такого неподвижного эфира предложил в XIX веке именно Лоренц — она казалась «самой удачной». Но этому призраку нанес непоправимый удар один замечательно тонкий, тысячекратно описанный опыт, прославивший физика Альберта Майкельсона.
Если свет распространяется в неподвижном эфире, а Земля летит сквозь эфир, то два световых луча — один, пущенный по направлению полета Земли, а другой — в противоположном направлении, — должны двигаться относительно Земли с разными скоростями.
Первый из этих лучей Земля догоняет, уменьшая этим его относительную скорость. От второго — убегает. И потому относительная скорость этого луча увеличивается. Навстречу Земле должен как бы дуть эфирный ветер, тормозящий свет. Так мотоциклист, даже в недвижном зное степного полдня чувствует, как бьет ему в лицо поток горячего воздуха: своим движением он сам создает этот ветер… И вот оказалось, что разницы в скоростях двух световых лучей нет! Оказалось, что в отличие от мотоциклиста Земля «не чувствует» никакого эфирного ветра, который должен был бы «бить ей в лицо», если бы она и впрямь летела через неподвижный эфир.
Идея неподвижного эфира стала в противоречие с прямым опытом, а это — худшее из всего, что может случиться с физической идеей.
Правда, приверженцы старого призрака могли возразить: «Погодите, погодите, мы поставим еще более тонкие опыты, и тогда…»
— Вы и тогда ничего уже не докажете! — сказал в начале нашего века Альберт Эйнштейн.
Через три года после сетований Лоренца теория относительности навсегда похоронила идею эфира. В этом могущество истинной теории — она уж если хоронит ложную идею, то навсегда. Никакими опытными ухищрениями с нею ничего не поделаешь. Так закон сохранения энергии сделал заведомо бессмысленными все попытки построить вечный двигатель, и патентные бюро всего мира давно уже отвергают, не рассматривая, любые проекты перпетуум-мобиле.
Теория относительности показала, что нет и не может быть абсолютного покоя. Нет абсолютного пространства, в котором звездные миры вселенной плавали бы, как рыбы в неподвижном водоеме: рыбы снуют, а вода стоит. В таком аквариуме перемещение рыбешек можно отсчитывать от неподвижных стенок. А во вселенной нельзя найти абсолютно покоящегося «тела отсчета». Мировое пространство нельзя рассматривать, как стоячую воду или — повторим это — как дом, построенный кем-то для материи, в который она въехала на временное или постоянное жительство.
А призрак «самого удачного» эфира превращал вселенную именно в аквариум со стоячей водой. Неподвижный, всепроникающий, этот эфир Лоренца захотел играть запрещенную природой роль — он стал материальным воплощением абсолютного покоя, он сделался физическим выражением ложной идеи абсолютного пространства. Значит, по приговору теории относительности он был обречен.
Можно запоздало спросить: а как же по неподвижному эфиру вообще могли передаваться колебания, как мог по нему распространяться свет? Ну, скажем, так же, как по неподвижно висящему театральному занавесу порою пробегает дрожь от прикосновения руки. Но теперь уже не важны детали: теория относительности попросту сняла этот занавес.
Но нелегко было с ним расставаться, с этим призраком. Впрочем, вся сегодняшняя физика, и особенно наука об элементарных частицах, представляет собою цепь таких расставаний с прежними иллюзиями.
Не раз экспериментаторы пытались опровергнуть опыт Майкельсона. В 1904 году Морли и Миллер еще увеличили точность измерений, а через два десятилетия второй из них Неожиданно объявил, что новые данные все-таки доказывают существование ветра в неподвижном эфире, сквозь который летит Земля. Выводы Миллера сердито комментировал покойный академик С. И. Вавилов. И было понятно, почему он сердился: ловля эфира стала сбором улик против теории относительности — против новых революционных физических воззрений нашего века.
Читать дальше