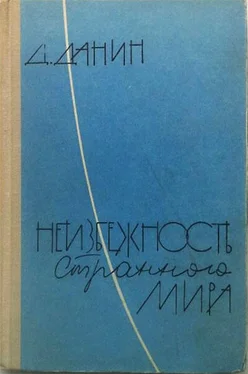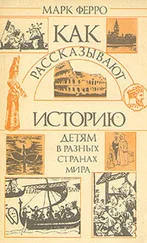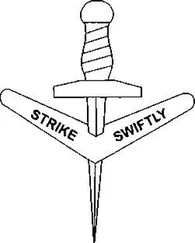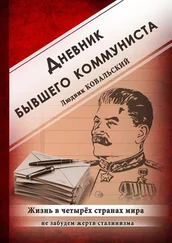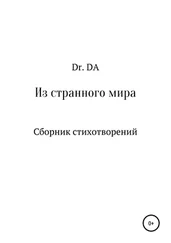Физики, съехавшиеся в Киев со всех концов земли, обменивались адресами и взаимными приглашениями в гости. Но все они молча признавали, что их подопечный — мир элементарных частиц — географического адреса не имеет. Молча признавали они, что всюду и везде он управляем одними и теми же законами природы, а не человеческими установлениями. Об этом-то и поведала сразу наша произвольно допущенная минута.
Не могло быть даже тени сомнения, что это их общая нерушимая убежденность. Как могли бы наши физики из Дубны и американские физики из Беркли обмениваться научной информацией, если бы они не верили, что в лабораториях Дубны и лабораториях Беркли протоны ведут себя совершенно одинаково и представляют собою одну и ту же физическую реальность? Чем могли бы взаимно обогатиться теоретики Японии и экспериментаторы Италии, если бы в них не жила молчаливая уверенность, что микромир существует сам по себе и в своих закономерностях не зависит от волеизъявлений микадо или происков Ватикана? И, наконец, зачем бы ехал в Киев Гейзенберг, если бы он внутренне не был вполне убежден в объективной реальности природы? Как он мог бы надеяться, что будет понят другими и сам поймет других? Зачем бы он тогда вообще занимался физикой?
Вот что одолевало меня, стороннего наблюдателя, в Киеве: сомнения в искренности и «додуманности» физического идеализма… А тут еще киевская жара! Днем и ночью она с грубой прямолинейностью доказывала всем и каждому, что природа существует абсолютно независимо от сознания людей и делает свое потогонное дело, совершенно не считаясь с их желаниями и не спрашивая их согласия. При температуре в 36 градусов ночью ни один здоровый человек не может долго оставаться субъективным идеалистом, а человек, глотающий таблетки, тем более! (Неспроста же в древней Греции не было сколько-нибудь серьезной школы субъективного идеализма. Там средняя годовая температура для этого, право же, слишком высока.)
Был день, когда Гейзенберг тоже впрягся в микрофон и тоже волочил по сцене нескончаемый шнур. Все-таки надев ради торжественности случая мучительно материальный галстук, он рассказывал о своих новых физических построениях. Потом он вел заключительное заседание. И, сидя в зале рядом с профессором X., я сказал ему шепотом:
— Знаете, почему философские разногласия не мешают физикам заниматься делом? Потому что все вы — явные или тайные материалисты. Даже тогда материалисты, когда думаете, что это не так.
И еще мне пришло на ум, что этот безотчетный профессиональный материализм исследователей природы — то, что Энгельс и Ленин называли стихийным материализмом естествоиспытателей, — рано или поздно неизбежно должен в нашем веке превращаться в материализм осознанный и последовательный. Я и это сказал профессору X. Он ответил мне шепотом:
— Вы ломитесь в открытые двери. А что касается старика Гейзенберга, то с ним это уже, кажется, случилось…
— Когда? — спросил я от неожиданности громче, чем это было допустимо, и «старик» Гейзенберг с председательского места на сцене вопросительно посмотрел в зал.
— Года четыре назад, — услышал я шепот X. — А может, еще раньше. Наверху в киоске есть сборник к семидесятилетию Бора. Перелистайте — сами увидите…
И через час, стоя у окна в фойе, я читал фразу, которая за подписью Вернера Гейзенберга звучала бы некогда так же неправдоподобно, как в устах Бора признание физической законности понятия «детерминизм». Вот эта фраза: «…Физик должен постулировать в своей науке, что он изучает мир, который не он изготовил и который существовал бы без значительных перемен, если бы этого физика вообще не было».
«Вообще не было», — звучало в моих ушах.
Пожелай я выразить сверххудожественно свое впечатление от этого открытия, я мог бы сказать, что трепещущая на ветру страница с фразой Гейзенберга показалась мне белым флагом над былой копенгагенской крепостью.
12
Вот как много воды утекло со времен знаменитого Сольвеевского конгресса 1927 года!
И если бы де Бройль в своей памятной лекции спросил: «Останется ли индетерминистическим толкование квантовой физики?» — он, как вы видите, получил бы желанный ответ: «Нет, не останется!» И что самое неожиданное, его заверили бы в этом былые вожди индетерминизма — Бор и Гейзенберг. Заверения надежней ему и искать не надо было бы.
Но де Бройль спросил не это. К сожалению, не это. Он спросил: «Останется ли беспричинной сама квантовая физика?» И выразил в своем вопросе старое механистическое убеждение, что без классической однозначной причинности детерминизма нет. Назад, к Лапласу! — вот что это значило, если отбросить тонкости и детали.
Читать дальше