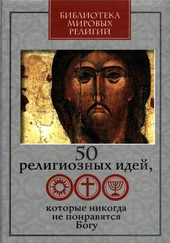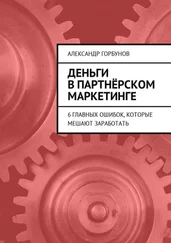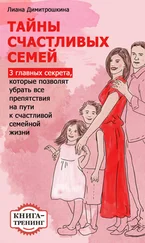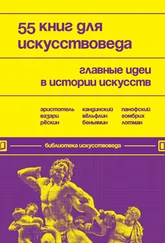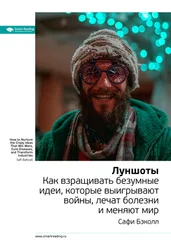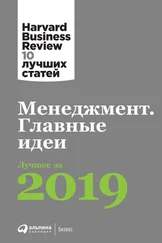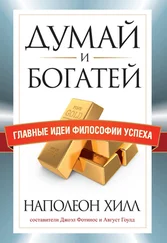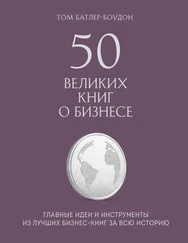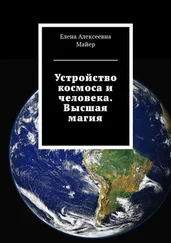Одним из главных действующих лиц в описываемой истории стал Георгий Гамов, в конце 1940-х гг. преподававший в Университете имени Джорджа Вашингтона (округ Колумбия). Вместе с двумя молодыми коллегами — Ральфом Альфером и Робертом Германом — он занялся проблемой возникновения химических элементов во Вселенной на основе теории Большого взрыва. Гамов был убежден, что именно объяснение процесса рождения химических элементов может окончательно подтвердить справедливость модели Большого взрыва. Самого Гамова многие считали креативным гением, выдвигающим новые идеи и щедро делящимся этими идеями со студентами и сотрудниками. С другой стороны, Гамов (подобно Фрицу Цвикки) имел не простую личную репутацию и помимо своих блестящих научных достижений был известен несдержанным поведением и пристрастием к алкогольным напиткам, что затмевало многие его достоинства. У Гамова была богатая научная родословная, так как ранее он учился в Петроградском/Ленинградском (ныне Санкт-Петербургском) государственном университете у знаменитого физика Александра Фридмана [24], который когда-то первым нашел решения полевых уравнений Эйнштейна для развития Вселенной. Ранние научные работы Гамова относились к радиоактивности и эволюции звезд. Он много лет пытался покинуть СССР и в 1934 г. перебрался с женой на постоянное жительство в США. Несмотря на внушительные достижения в изучении радиоактивности и ядерного синтеза, Гамова не привлекли к выполнению самого главного национального проекта США (Манхэттенский проект по созданию атомной бомбы), хотя позднее он короткое время работал в Национальной лаборатории Лос-Аламос и участвовал в разработке водородной бомбы. Несмотря на свою противоречивую репутацию среди коллег, Гамов имел много поклонников среди представителей общественности, а в 1940-х гг. получил известность как автор бестселлеров на научно-популярные темы, включая известные книги «Раз, два, три… бесконечность. Мистер Томпкинс изучает атом» и «Мистер Томпкинс в бумажном переплете» {5} .
Примерно в 1944 г. Гамов (вместе с Альфером и Германом) занялся проблемами космической химии. Герман, незадолго до этого получивший докторскую степень в Принстоне, развивал идеи Леметра о первозданном атоме и возникновении Вселенной. Гамов искал ответы на чрезвычайно простые, но очень важные вопросы: каким образом во Вселенной стал возможным синтез всех известных нам химических элементов? Могли ли все эти элементы образоваться на самом начальном этапе ее формирования, еще до того, как во Вселенной возникли первые звезды? Гамов был убежден в справедливости модели горячего Большого взрыва и пытался найти для этой теории недостающие к тому моменту бесспорные обоснования. Поскольку уже было известно, что в зарождающейся Вселенной могут возникать водород и гелий, Гамов предположил, что все остальные химические элементы могли появиться в результате дальнейшего прироста массы за счет слияния и захвата. Восприняв эту новую методологию, Альфер и Герман попытались, исходя из современного состояния Вселенной, экстраполировать самые начальные условия возникновения, когда плотность Вселенной была очень высокой, то есть воспроизвести то ее раннее состояние, когда она содержала главным образом лишь обогащенные гелием и водородом звезды. По их расчетам, плотность Вселенной в это время была столь велика, что частицы (и их физические двойники-антиподы, то есть античастицы) могли непрерывно объединяться и разъединяться, позволяя энергии и веществу постоянно преобразовываться. При предполагаемых экстремально высоких температурах начального взрыва мог постоянно реализовываться эйнштейновский принцип эквивалентности массы и энергии (читатель сразу вспомнит знаменитую формулу Эйнштейна Е = mc 2 ) для связи частиц и античастиц. Исходя из того что описываемая ранняя Вселенная представляла собой «суп» из неупорядоченных частиц, Альфер и Герман поняли, что это постоянное превращение массы-энергии приведет к некоторому балансу. В результате этого процесса должны конденсироваться и возникать все известные нам субатомные частицы (протоны, электроны, нейтроны, фотоны и нейтрино), а сама Вселенная — расширяться и охлаждаться.
Такое равновесие (физики называют его тепловым) обладает некоторыми необычными свойствами. Представьте себе замкнутый ящик с непрозрачными стенками, способный поглощать энергию (все формы излучения, включая свет) и вещество извне. В соответствии с законами квантовой механики такой ящик в равновесном состоянии соответствует так называемому идеальному «черному телу», а кривая распределения его излучения должна определяться лишь температурой его стенок. Гамов был первым, кто понял и оценил роль теплового излучения и термического равновесия в процессе синтеза химических элементов. Поверив в его идею, Альфер и Герман сделали следующий важный шаг в исследовании, предположив, что горячая плотная ранняя Вселенная, достигнув теплового равновесия, должна вести себя подобно черному телу. Поскольку главной характеристикой черного тела является его температура, Альфер и Герман просто оценили температуру космоса, то есть температуру Вселенной в текущий момент времени. Более того, они предположили, что, даже несмотря на расширение Вселенной, приводящее к ее охлаждению, неудаляемая «подпись» ранней, нагретой Вселенной будет сохраняться в виде излучения черного тела. Присутствие этого излучения везде определяется особой формой излучения черного тела. Черное тело остается таким всегда, даже когда остывает. Поэтому Вселенная остается чернотельной и сегодня, хотя у нее более низкая температура, чем при ее огненном начале. Температуру текущего, чернотельного, состояния Вселенной Альфер и Герман оценили в 5 °К (что соответствует –268 °C). Утверждения, что Вселенная является чернотельной и что ранняя и современная Вселенные характеризуются уникальной температурой, были замечательными. Предсказанное Альфером и Германом очень низкое значение текущей температуры Вселенной противоречило интуитивным ожиданиям, но это значение оказалось очень близко к тому, которое удалось получить при экспериментальных измерениях несколькими десятилетиями позже. При этом стоит отметить, что человеческое сознание проще воспринимает лишь гораздо более высокие температуры, так как в повседневной жизни мы легко чувствуем температуру кипящей воды или поджаренного на гриле куска мяса. С другой стороны, предложенная авторами космическая температура в 5 °К оказалась также намного ниже всех привычных представлений о холоде, то есть существенно ниже не только температуры человеческого тела (примерно 310 °К), но и температуры льда, считающегося привычным эталоном холода. Однако проблема температуры была побочной, так как исходной задачей Альфера и Германа было объяснение механизма возникновения и построения атомов из вещества первичного огненного шара. Несмотря на все усилия, им удалось решить эту задачу только частично, описав рождение всего нескольких элементов тяжелее гелия. В 1948 г. они напечатали статью в журнале Nature , где привели полученные ими оценки современной температуры Вселенной, но не сумели четко обосновать свои достижения {6} . В их статье содержались основополагающие идеи, касающиеся ранней Вселенной, а также исправления некоторых ошибок, допущенных Гамовым в одной из предыдущих публикаций. Однако, как отмечалось чуть выше, им не удалось объяснить возникновение ни одного из существующих в природе стабильных изотопов с атомным числом более 5, хотя именно это было ключевым моментом в поставленной ими же проблеме. Несмотря на это, работа Альфера и Германа содержала много очень интересных новых результатов, включая расчет плотности вещества в расширяющейся Вселенной. Однако из-за отсутствия объяснения механизма рождения тяжелых атомов ее сочли ошибочной и неудачной. К несчастью, в результате этого предложенные ими в тексте статьи оценки и расчеты температуры космоса также были сочтены недостойными внимания или неверными.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Приямвада Натараджан Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса] обложка книги](/books/406358/priyamvada-nataradzhan-karta-vselennoj-glavnye-idei-cover.webp)