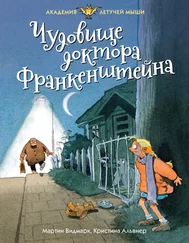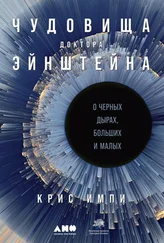S.J. Dick, Discovery and Classification in Astronomy: Controversy and Consensus (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2013).
Мне посчастливилось воспользоваться 2,5-метровым телескопом обсерватории Маунт-Вилсон за год до того, как его законсервировал Институт Карнеги. Все более яркие огни Лос-Анджелеса за несколько лет до этого сделали его неконкурентоспособным, но было восхитительно работать с телескопом, 30 лет являвшимся самым большим в мире – тем самым, с помощью которого Эдвин Хаббл доказал, что галактики находятся очень далеко от Млечного Пути и что Вселенная является огромной и расширяется. Я помню ряд деревянных шкафчиков за северным столбом-опорой, на одном из которых значится имя Хаббла – тщательно выгравированное на медной пластинке. Возможно, Хаббл оставил в нем свой ланч? На полу купола, под ногами, я увидел капли ртути. Подшипники телескопа плавают на ртути, и она протекает; за долгие годы из-за частых контактов с ней умерло несколько сотрудников. Во времена Хаббла наблюдатели работали несколько часов, делали перерыв на ужин, за которым следовал портвейн и сигара, затем возобновляли труды. Ужин в обсерватории Маунт-Вилсон был традиционным и официальным. На вершине горы старший астроном садился во главе стола, остальные штатные астрономы – рядом с ним, студенты и постдоки вроде меня – на дальнем конце. Ужин подавал блистательный, но вспыльчивый французский шеф-повар, открывший несколько ресторанов в окрестностях Лос-Анджелеса, но все они разорились, потому что он ссорился с клиентами и спонсорами. Обсерватория Маунт-Вилсон стала бы идеальным пристанищем для творческого социопата. Еда была великолепная, но такая сытная, что я чуть не засыпал на ходу, а ночь все тянулась. Чтобы взбодриться, я поднялся на лестницу, которая опоясывала купол в три пролета. Над головой мерцали звезды, а внизу сияющей сетью расстилались огни города.
C.K. Seyfert, “Nuclear Emission in Spiral Galaxies,” Astrophysical Journal 97 (1943): 28–40.
Райл и Ловелл были физиками, прекрасно понимавшими возможности методов радионаблюдений – открывалось новое окно во Вселенную. Они легко преодолели разрыв между инженерной и научной «культурами», и каждый из них организовал в одном из ведущих университетов исследовательскую группу, превратив радиоастрономию в еще одну ветвь астрономии. Специалист по военным радарам Роберт Дикке создал исследовательскую группу в МТИ, но радиоастрономия удивительно медленно приживалась в Соединенных Штатах, на родине Янского и Ребера.
Вклад Руби Пэйн-Скотт описан в кн.: M. Goss, Making Waves: The Story of Ruby Payne-Scott, Australian Pioneer Radio Astronomer (Berlin: Springer, 2013). Начало истории радиоастрономии превосходно раскрывается в кн.: W.T. Sullivan III, Cosmic Noise: A History of Early Radio Astronomy (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009).
Когда Райл и другие ученые продемонстрировали, что в действительности излучение Лебедя А является неизменным, а наблюдаемая переменность вызвана отклонением радиоволн облаками ионизированного газа в верхних слоях земной атмосферы, это привело ученый мир в еще большее недоумение. Но так и не было покончено с гипотезой «радиозвезды», потому что в оптическом диапазоне звезды мерцают, а планеты нет. Это объясняется тем, что звезды являются точечными источниками, а планеты – дискообразными и мерцание планеты для земного наблюдателя размывается. По той же логике, если Лебедь А мерцает, он должен быть точечным или по крайней мере иметь маленький угловой размер.
B. Lovell, “John Grant Davies (1924–1988),” Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society 30 (1989): 365–69.
Действительная формула имеет вид ? = 1,22 (?/D) , где ? – угловое разрешение в радианах, ? – длина волны наблюдения, D – диаметр телескопа (в тех же единицах измерения).
При условии, что находился бы вне земной атмосферы. – Прим. науч. ред.
Метод является радиоаналогом интерферометра Майкельсона или опыта Янга с двойной щелью. Представьте источник, расположенный точно в зените двух радиотелескопов. Длина пути волн к каждой тарелке одинакова, поэтому, когда эти волны соединяются, они вызывают увеличение амплитуды. По мере движения источника разница между путями изменяется; когда она составляет половину длины волны, два сигнала при наложении нейтрализуются. Таким образом, при движении источника возникает интерференционный рисунок из сильных и слабых сигналов. Ширина интерференционных полос определяется расстоянием между двумя тарелками, поэтому положение источника можно установить с высокой точностью. Группа радиоастрономов из Австралии предложила оригинальную версию этого метода. Антенну поместили на прибрежную скалу и обратили на восток. Когда радиоисточник восходил, то радиоизлучение поступало на антенну как напрямую под малым углом, так и по чуть более длинному пути, отражаясь от поверхности моря. Антенна и ее «зеркальное отражение» являлись двумя элементами интерферометра.
Читать дальше
![Крис Импи Чудовища доктора Эйнштейна [litres] обложка книги](/books/401301/kris-impi-chudovicha-doktora-ejnshtejna-litres-cover.webp)
![Крис Райландер - Дар скального тролля [litres]](/books/390671/kris-rajlander-dar-skalnogo-trollya-litres-thumb.webp)
![Герта Крис - Академия «Пирамида». Уполномочена полюбить [litres]](/books/392828/gerta-kris-akademiya-piramida-upolnomochena-polyub-thumb.webp)
![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)
![Мартин Видмарк - Чудовище доктора Франкенштейна [litres]](/books/393513/martin-vidmark-chudoviche-doktora-frankenshtejna-lit-thumb.webp)
![Лили Крис - Наследники замка Лейк-Касл [litres]](/books/406371/lili-kris-nasledniki-zamka-lejk-kasl-litres-thumb.webp)
![Алан Лайтман - Сны Эйнштейна [litres]](/books/415499/alan-lajtman-sny-ejnshtejna-litres-thumb.webp)
![Крис Колфер - Дневники Матушки Гусыни [litres]](/books/416798/kris-kolfer-dnevniki-matushki-gusyni-litres-thumb.webp)
![Герберт Уэллс - Война миров. Машина времени. Человек-невидимка. Остров доктора Моро [litres]](/books/420623/gerbert-uells-vojna-mirov-mashina-vremeni-chelovek-nevidimka-ostrov-doktora-moro-litres-thumb.webp)
![Герта Крис - Черная Дама, Белый Валет [litres]](/books/434680/gerta-kris-chernaya-dama-belyj-valet-litres-thumb.webp)