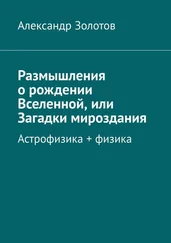В биологических науках недавний кризис воспроизводимости тоже подстегнул ученых к тому, чтобы приложить усилия и подстраховаться от предвзятости при планировании эксперимента, при статистическом анализе его результатов и при их публикации 197. Впереди еще долгий путь, но хотя бы начало положено.
При разработке же теорий аппаратура, которой мы пользуемся, – наш мозг. Но мы не делаем ничего, чтобы избежать предвзятости при работе с ним. Мы не можем визуализировать свой прогресс в простых графиках, но, если бы сумели, я уверена, что мы тоже узрели бы у теоретиков установку на воспроизведение существующих результатов. По некоторым темам мы наплодили столько статей, что те превратились в самоподдерживающиеся области исследований даже в отсутствие экспериментальных доказательств. В случае теоретиков речь идет о сложных теоретических построениях, которые тщательно проверяются – проверяются с точки зрения математической согласованности. Выдвижение иного решения, также математически согласованного, равносильно получению результата, противоречащего существующей литературе.
Возьмем, например, испарение черных дыр. Данных по нему нет никаких. Парадокс файервола (см. главу восьмую) продемонстрировал, что самая изучаемая попытка разрешить проблему потери информации в черной дыре – калибровочно-гравитационная дуальность – нарушает принцип эквивалентности. Стало быть, она не решает проблему, которую призвана была решить, поскольку несовместима с главным постулатом общей теории относительности [111] Я думаю, что парадокс файервола основан попросту на ошибочном доказательстве. См.: Hossenfelder S. 2015. Disentangling the black hole vacuum . Phys. Rev. D. 91: 044015. arXiv:1401.0288. Но, независимо от его статуса, любопытно видеть, какие следствия вывели мои коллеги.
. Но проведена такая большая работа ради этого предполагаемого решения, что совершенно немыслимо выкинуть все на помойку. Поэтому физики-теоретики пытаются сейчас привести новый результат в соответствие с предыдущей работой, переизобретая квантовую механику.
Например, Хуан Мальдасена и Леонард Сасскинд объявили, что запутанные частицы соединены так называемыми кротовыми норами – деформациями пространства-времени, столь сильными, что две прежде не связанные друг с другом области оказываются соединены коротким туннелем 198. Нелокальность тогда перестает быть «жуткой», а пространство и время и наша Вселенная оказываются пробуравлены кротовыми норами. Кротовые норы связывали бы в том числе и пары частиц, образующих излучение Хокинга, устраняя разом и проблему файервола, и проблему потери информации в черной дыре. Эта идея разрабатывается для пространства-времени с отрицательной космологической постоянной, так что не описывает Вселенную, в которой мы живем. Но Мальдасена и Сасскинд надеются, что это некий общий принцип, который имеет место и в нашей Вселенной [112] Непроходимые кротовые норы называются мостами Эйнштейна – Розена (ER), и говорят, что запутанные частицы находятся в состоянии Эйнштейна – Подольского – Розена (EPR), поскольку впервые обсуждались Эйнштейном, Подольским и Розеном (Einstein A., Podolsky B., Rosen N. 1935. Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? Phys. Rev. 47: 777). Поэтому предположение, согласно которому и то и другое описывает одно и то же, стало обозначаться в литературе как «ER = EPR».
.
Может, они и правы. Это интересная новая идея. Если природа действительно так устроена, это стало бы ошеломительным открытием. И оно так славно согласуется со всеми предыдущими результатами.
Пестование красоты и желание соответствовать – характерные черты человека. Однако они коверкают нашу объективность. Это когнитивные искажения, не позволяющие науке работать оптимальным образом, и они сейчас не принимаются в расчет. И это не единственные когнитивные искажения, которым подвержены теоретики. В то время как экспериментаторы прикладывают все усилия, чтобы противостоять системной предвзятости, теоретики совершенно беспечно продолжают свою работу, блаженно полагая, что точные законы природы возможно постичь интуитивно.
Когнитивные искажения для человека – это не всегда плохо. Большинство из них возникли потому, что приносят – по крайней мере, приносили – нам пользу. Например, мы чаще высказываем мнение, которое, как полагаем, будет благосклонно воспринято другими. Этот «эффект социальной желательности» – побочный продукт необходимости вписаться в группу, чтобы выжить. Вы не высказываете вождю племени, что шалаш воняет, если позади вас стоит с десяток соплеменников с копьями. Умно! Но хотя подобное соглашательство может способствовать нашему выживанию, оно редко способствует обретению нового знания.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Сабина Хоссенфельдер Уродливая Вселенная [Как поиски красоты заводят физиков в тупик] обложка книги](/books/389689/sabina-hossenfelder-urodlivaya-vselennaya-kak-pois-cover.webp)