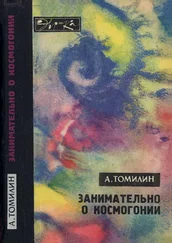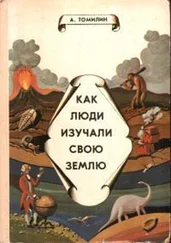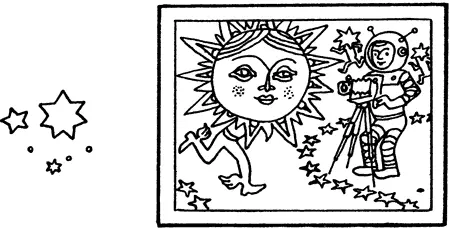
В двадцать лет, скопив денег, он покупает свой первый 5-дюймовый телескоп и скоро получает первую премию в 200 долларов за открытие новой кометы. (Неплохое средство поощрения любителей науки!) После того как Эдвард несколько раз подряд подписал чеки на сумму в 200 долларов, его пригласили работать на обсерваторию. Из любителя Барнард превратился в профессионала-астронома. Впрочем, ателье нашвиллского городского фотографа не прошло для него бесследно.
Начало XX века Эдвард Эмерсон Барнард встречает в хлопотах по совершенствованию аппаратуры для фотографирования Млечного Пути. Пожалуй, эта работа и оставила его имя в истории астрономии. Не имея возможности приобрести систематические знания, он до конца своих дней оставался наблюдателем-практиком, усовершенствовавшим и приспособившим великое множество фотоаппаратуры для астрономических целей.
В Йеркской обсерватории памятью об этом едва ли не последнем могиканине из любителей-профессионалов астрономов сохранена пачка фотографий Млечного Пути. Последняя серия снимков Барнарда сделана в 1925–1926 годах. Сейчас есть фотографии лучше. Тем более что все 50 отпечатков полувековой давности безнадежно испорчены круглой дырой в середине — следом от пули. (Хотя, с другой стороны, может быть, именно этот недостаток и сохранил им жизнь и почет в обсерваторном архиве?) Дело в том, что грузовик, на котором ехали злополучные фотографии в чикагское издательство, попал в перестрелку. Читатель, знакомый с историей, скажет: «Позвольте, но на территории Америки в те годы не было войны». Совершенно справедливо. Американцы уже давно предпочитают упражняться в военном деле вдали от собственного дома. И все-таки фотографии Барнарда попали в зону боевых действий. Только войну вели между собой не регулярные армии, а… гангстерские банды. Пуля гангстера и пробила пачку позитивов. Как знать, не этот ли факт навел в будущем руководителей «почтенных корпораций» на мысль, что наука тоже вполне подходящий объект для внимания «джентльменов удачи»?
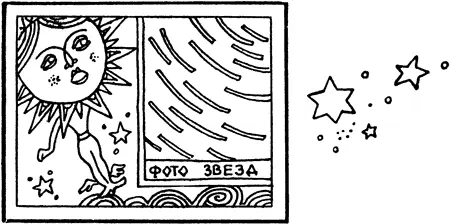
Заканчивая раздел, подчеркнем еще раз основную мысль, что классификация и новые методы наблюдений позволили астрономам совершить качественный скачок в своих исследованиях. От бесконечных вопросов «что это?» ученые перешли сначала к робким, а потом все более настойчивым «почему?».
Под знаком «почему?» началось и проходит наше двадцатое столетие.

Глава двенадцатая
Частная жизнь Альфы Центавра

Именно несоответствия приводят к углублению знаний.
Е. Пикеринг
1. Диаграмма Герцшпрунга — Рессела
Большие открытия, как правило, начинаются с больших неувязок. В начале эпохи спектрального анализа все казалось простым и ясным. Чем слабее звезда, тем она холоднее, размер ее меньше, а следовательно, меньше и масса. Это положение логически стройно и не противоречит здравому смыслу. Но звезды упрямы. Они не хотят подчиняться земным законам. Первая неприятность произошла со спутником Сириуса.
Еще в 1844 году великий Бессель заметил, что в движении популярнейшей звезды северного неба наблюдаются какие-то странные вихляния. Будто пес на бегу легкомысленно виляет хвостом и потому все время чуточку сбивается с пути (напомним, что созвездие, к которому принадлежит Сириус, и называется Большой Пес). Впрочем, вряд ли такое сравнение пришло в голову Бесселю. Но то, что траектория искажается не сама по себе, в этом он был уверен. «Так может лететь звезда, которой постоянно кто-то мешает. Крутится вокруг нее и сбивает с пути…» — думал герр математик, принимаясь за расчеты. И скоро вычисления подтвердили его предположения. Они утверждали, что рядом с Сириусом должен лететь достаточно тяжелый спутник! Но его никто не видел.
Прошло восемнадцать лет. Испытывая новый телескоп, американский оптик Альван Кларк углядел-таки слабую звездочку рядом с Сириусом. Это был Щенок. Масса его, по расчетам, должна была быть примерно равна солнечной. Правда, не очень было ясно, почему он так Слабо светится? Сначала предположили, что холоден и потому тускл. Но в 1914 году астроном Адамс, исследуя спектр Щенка, обнаружил, что тот угрожающе похож на спектр самого Сириуса. А значит, и температура и блеск спутника не должны уступать этим параметрам основной звезды, то есть быть выше солнечных. И действительно, скоро выяснилось, что температура на поверхности окаянного Щенка не меньше 8 тысяч градусов. Но тогда почему он так слабо светится?
Читать дальше
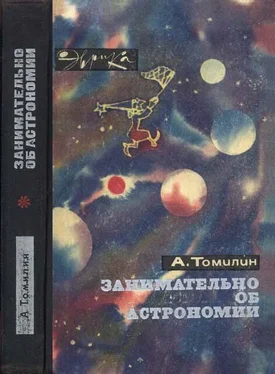
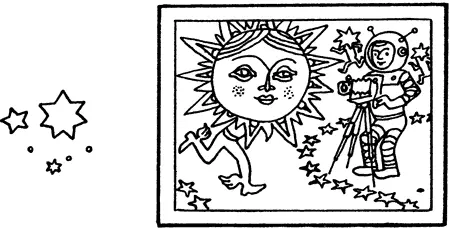
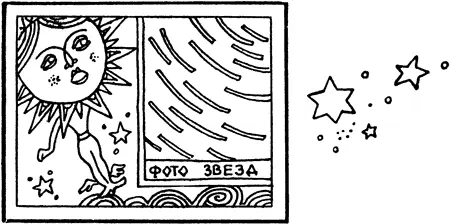




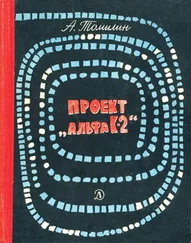
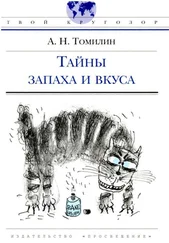
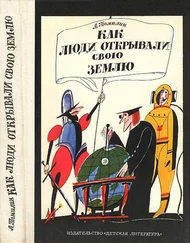

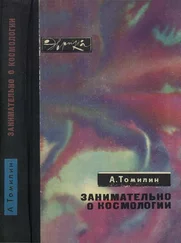
![Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]](/books/196773/anatolij-tomilin-hochu-vse-znat-1970-thumb.webp)