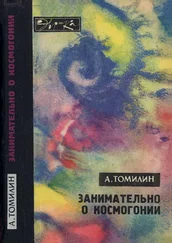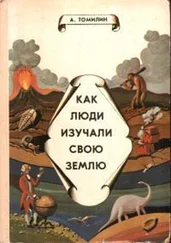Желание ваше, если вы потерпели кораблекрушение, определить свои координаты и сообщить их миру, понятно и естественно. Вторая половина проблемы решается просто: сообщить можно по радио, если услужливые волны выбросили вместе с вами на пустынный берег передатчик с комплектом питания, а можно запечатать записку в бутылку из-под рома и бросить в воду. Другое дело — техника определения координат.
Давайте расширим земной экватор до его пересечения с небесной сферой. Получится небесный экватор. Ясно, что плоскость его будет перпендикулярна оси мира. Но этого тоже маловато. Надо решить, откуда начинать отсчет по экватору. Тут на помощь приходит земная орбита. Если ее плоскость продлить до пересечения с небесной сферой, получим еще одну окружность, которая называется эклиптикой. Эклиптика наклонена к небесному экватору точно так же, как плоскость земной орбиты к плоскости земного экватора. И пересекается с ним в двух точках — весеннего и осеннего равноденствия. Вот если теперь через эти точки и полюсы мира провести большой круг, то мы получим как раз ту линию, от которой и надо отсчитывать угол.
Значит, один угол — от точки весеннего равноденствия по небесному экватору, другой — от небесного экватора к полюсам по кругу склонения звезды. Теперь достаточно небольшого телескопа или угломерного инструмента, чтобы, оказавшись в сердце Великого, или Тихого, океана на необитаемом острове, легко и непринужденно самоопределиться.


Классификация — это лишь один из методов (и, вероятно, самый простой) отыскания порядка в мире.
А. Вул
Природа настолько разнообразна, что не будь у человека избирательной способности и склонности к обобщениям, он никогда бы не познал окружающий мир. По мере накопления знаний мы стремимся подмечать сходные черты у различных явлений. Это позволяет отнести их к одному классу или типу. Становится легче. Так мы вводим хоть какой-то порядок в запутанные явления природы и начинаем чувствовать себя уютнее. Человек — педант. А природа? Природа вполне может обходиться без классификации. Так что эта глава, можно считать, будет посвящена чисто человеческой деятельности.
Астрономия — опасная вещь. Попробуйте понаблюдать сверкающие россыпи в телескоп, изготовленный собственными руками. Ночь, вторая, третья… Сначала это забавно, потом интересно, потом… потом вам приходит в голову навести какой-то порядок в кажущемся хаосе. И тогда все, вы погибли! Вы заболели. Вы отравлены небом на всю жизнь. И вы пьете чашу Сократа, благословляя и проклиная тот миг, когда впервые подняли голову кверху. Но вы — человек!
Две тысячи лет назад Гиппарх, составляя звездный каталог, разделил сверкающие небесные тела на шесть групп — шесть звездных величин. При этом к первой он отнес яркие звезды, ко второй — те, чей блеск в два с половиной раза слабее, чем у звезд первой величины. К третьей — звезды, в два с половиной раза слабее второй. И так далее — до шестой включительно. Звезды шестой величины оказались в 100 раз слабее наиболее ярких. Это тот минимум, который мог заметить невооруженный глаз.
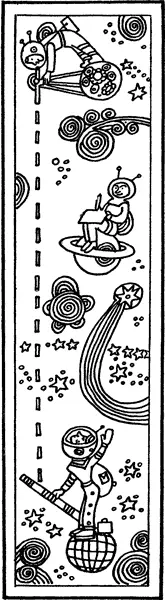
Сейчас мощные оптические системы современных телескопов позволяют выуживать на фотопластинку звезды, блеск которых во столько раз слабее солнечного, что число этих «разов» записывается цифрой с сорока нулями. Так, звезда 23-й звездной величины имеет блеск в 8,71•10 40раз слабее солнечного.
Самые яркие звезды на нашем небе — Сириус и Канопус. Астрономы обозначают их звездные величины отрицательными числами. Затем идут звезды величиной от нуля до единицы. Их всего десять. Они из числа знакомых уже нам навигационных маяков штурманов Земли.
Менее яркие звезды, до второй величины, считаются уже на десятки — их 41. Звезд от второй до третьей величины — 138, от третьей до четвертой — 357, до пятой — 1030! Шестую величину разглядит уже не каждый, и потому тут число спорное. В общем всего около пяти-шести тысяч в обоих полушариях. Немного. Но стоит приставить к глазам хотя бы бинокль, их число возрастет в десятки раз. Телескоп же средней силы заставляет нас вести счет на миллионы.
Читать дальше
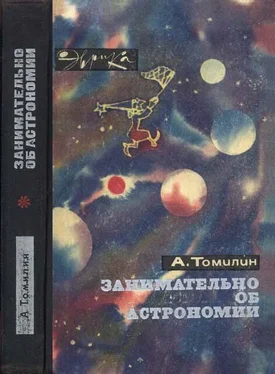


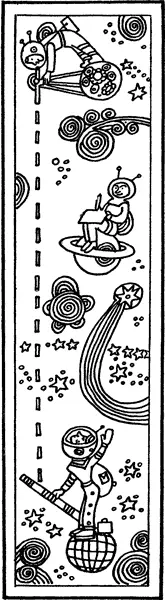


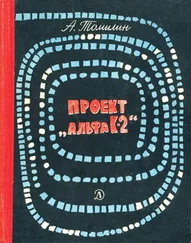
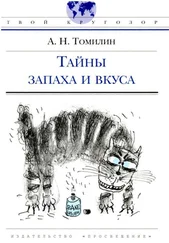
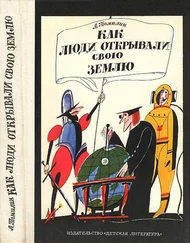

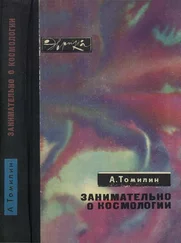
![Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]](/books/196773/anatolij-tomilin-hochu-vse-znat-1970-thumb.webp)