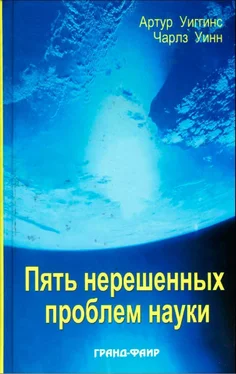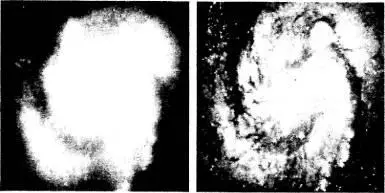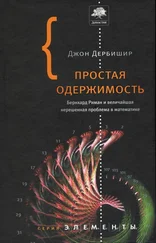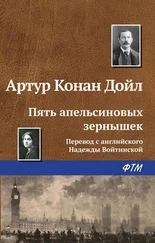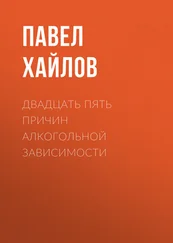Заметка о книге Райта в гамбургском журнале попала на глаза блестящему философу Иммануилу Канту. И хотя Кант неверно истолковал сообщение о работе Райта, ему удалось направить ее в созидательное русло. В 1755 году Кант предполагает, что Млечный Путь представляет собой линзовидный диск из звезд, вращающийся вокруг своей оси. Затем он утверждает, что размытые световые пятна, именуемые туманностями, на самом деле представляют собой системы звезд, подобные Млечному Пути, но находящиеся на большом удалении. Кант именует их островными вселенными. [21] Ни «линзовидные дисков», ни «островные вселенные» у Канта в его «Всеобщей естественной истории и теории неба…» (1755) нет. Вот его слова: «Все неподвижные звезды, доступные глазу в неизмеримой глубине неба, где они кажутся рассеянными с какой-то расточительностью, представляют собой солнца и центры подобные же систем… Скопление звезд, расположенные возле одной общей плоскости, составляет такую же систему, как планеты! нашего солнечного мира вокруг Солнца. Млечным Путь представляет собой зодиак этих миров высшего порядка… Разве нельзя на основании столь полного сходства в строении прийти к заключению об одинаковой причине и одинаковом способе образования? Но если неподвижные звезды образуют одну систему, размеры которой определяются сферой притяжения центрального тела, то разве не могут возникать еще иные системы солнц и, так сказать, еще иные млечные пути в безграничном мировом пространстве? Мы с изумлением увидели на небе фигуры, которые представляют собой не что иное, как именно подобные системы неподвижные звезд, ограниченные общей плоскостью, — млечные пути, если можно так выразиться, которые представляются нашему глазу при различном положении относительно его в виде эллиптических образований, мерцающих слабым светом из-за бесконечной удаленности от нас…» (Кант И. Докритические произведения). Далее встречается выражение «рассеянная масса мирозданий» (там же).
В ту пору не было средств, чтобы прикинуть расстояние до этих туманностей. Даже с помощью Бесселева метода параллакса, разработанного почти столетие спустя, не справиться с такой задачей.
Итак, начало изучению астрономией галактик положили богословски настроенный мастеровой и философ. Следующий важный вклад в понимание галактик суждено было внести ученому-наблюдателю. Любопытно, что его не занимали сами галактики; он составил перечень объектов, которых следовало избегать при поиске комет. Шарль Мессье (1730–1817) был столь заядлым охотником за кометами, что король Людовик XV прозвал его «кометной ищейкой». За всю жизнь Мессье открыл один или одновременно с кем-то 20 комет и наблюдал еще 24. Он часто находил неподвижные объекты, которые не могли быть кометами. Небольшими телескопами, которыми пользовался Мессье — в поперечнике они не превышали трех с половиной дюймов, — невозможно было различить в туманностях отдельные звезды. Наблюдаемые им «туманности» представлялись световыми пятнышками неведомого происхождения. Он составил перечень координат свыше 100 туманностей, снабдив их числами. Например, М31 ныне известна как туманность Андромеды, а М100 (рис. 6.2) — как Спиральная галактика.
Мессье писал: «К составлению каталога меня подтолкнула туманность I [ныне это Крабовидная туманность], открытая мной повыше верхнего рога Тельца 12 сентября 1758 года в ходе наблюдения за кометой того года. Данная туманность так походила на комету своим видом и светимостью, что я решил отыскать и иные туманности, с тем чтобы астрономы более не путали их с кометами». Мессье вызвал недовольство многих астрономов, посвятив комету 1769 года французскому императору Наполеону Бонапарту и истолковав ее как астрологическое знамение рождения Наполеона.
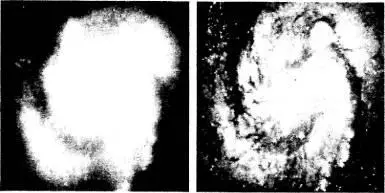
Рис. 6.2. Снимки галактики М100 с космического телескопа Хаббла
В начале 1900-х годов наблюдательная астрономия переживала расцвет. Удалось наблюдать сотни тысяч небесных тел. Благодаря щедрости богатых покровителей и неустанным усилиям ряда женщин-астрономов (см. главку «Чем крупнее телескопы, тем больше расстояния до звезд», с. 189–193) были составлены каталоги небесных тел с указанием их местонахождения, светимости и некоторых спектральных характеристик. Но расстояния были известны лишь для нескольких сотен ближайших звезд, а подробное строение туманностей и их удаленность от нас оставались неведомыми. Наблюдатели ушли далеко вперед, теоретикам лишь предстояло совершить прорыв.
Читать дальше