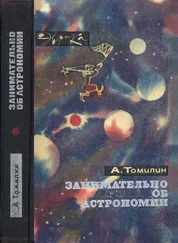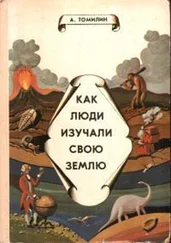Взрыв во вселенной вообще является закономерным скачкообразным переходом накопившихся количественных изменений в новое качественное состояние.
Конечно, это только принципиальная канва диалога между представителями разных точек зрения. На самом деле в нем и содержания и убедительности значительно больше. Здесь же он приведен лишь в качестве примера для того, чтобы в заключение сказать, что пока вопрос выбора той или иной концепции является делом вкуса.
Большим достоинством нового подхода школы В. Амбарцумяна к космогоническим явлениям можно считать отведение главной роли нестационарным объектам в развитии вселенной и взрывным процессам. Новая точка зрения постепенно укрепляется, растет у нее и число сторонников. Это и понятно. «Спокойная картина медленно меняющегося мира, в котором состояния всех объектов почти стационарны, — писал В. Амбарцумян, — полностью гармонировала со стройными механическими представлениями о вселенной, развитыми на основе небесной механики и только что зародившейся астрофизики…» То было время спокойного XIX века. Но вот на смену ему пришел век XX, век сокрушительных катаклизмов в обществе, в науке и технике. Покой и устойчивость сменились напряженной нервной жизнью, полной больших и малых потрясений. Они коснулись всех аспектов общественной жизни, не оставили в стороне ни одного человека. Должно было смениться и мировоззрение. Новая гипотеза советской космогонической школы словно сама родилась из нового ритма нашей жизни. А вот окажется ли она более справедливой, чем существующая классическая концепция, этот спор может разрешить только время. Ну что же, звездам торопиться некуда…

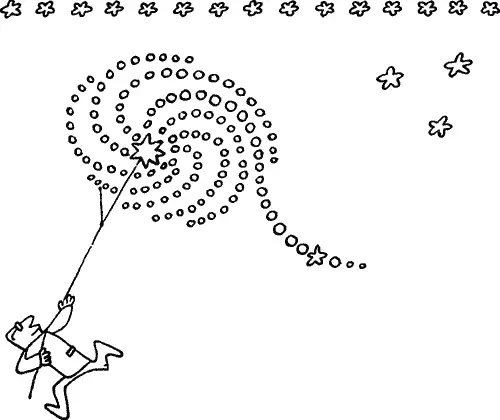
Это самый молодой раздел науки о происхождении и развитии небесных тел и их систем. Молодой, потому что только в нашем XX столетии новая мощная астрономическая техника позволила подтвердить предположение о существовании других галактик — огромных звездных систем, вроде нашей Галактики, — насчитывающих в своем составе сотни миллиардов звезд, объединенных, как правило, в различные коллективы. Еще 100 лет назад многие астрономы считали нашу Галактику вообще единственной системой во вселенной. За ее пределами — пустота. Как огромный пчелиный рой висит Галактика среди пустого Ньютонова пространства без конца и без края. Рой этот по форме напоминает жернов или чечевицу. Кроме отдельных звезд и звездных скоплений, в состав Галактики входило довольно большое количество «косматых объектов», как называли в прошлом столетии маленькие туманные пятна на небе неизвестной природы и непонятного состава. Правда, В. Гершель сумел разглядеть в некоторых из них звезды, но большинство их оставалось мутными пятнышками, неразличимыми ни в какой инструмент. Их так и назвали — «туманности». Интересовали они специалистов не очень сильно. Спорили в основном по частному вопросу, являющемуся следствием космогонических разногласий: является ли хорошо наблюдаемая туманность в созвездии Андромеды газовым зародышем будущей планетной системы, входящей в состав Галактики, как то утверждал еще П. Лаплас, или это самостоятельная звездная система, удаленная от нас на такое расстояние, что не может быть разложена на звезды ни одним из имевшихся инструментов?
В конце XIX столетия астрономы получили в руки новое мощное оружие исследования — спектральный метод. Свет звезд, пропущенный через призму спектроскопа, давал практически непрерывный спектр, пересеченный темными линиями поглощения. Нагретый же до свечения газ в тех же условиях имел спектр линейчатый.
Спектр туманности Андромеды, полученный в 1899 году, оказался непрерывным. Вам кажется, что вопрос можно закрыть? Что звездный состав туманности доказан? Ничуть не бывало. Спор только начинал разгораться по-настоящему. Почему бы не предположить, говорили сторонники небулярной природы туманности, что перед нами скопление холодного газа, которое светится не само, а только отражает свет звезд? Потому и спектр его непрерывный…
Позвольте, сокрушались противники, но где же те звезды, свет которых туманность отражает?
Звезд не было.
Читать дальше
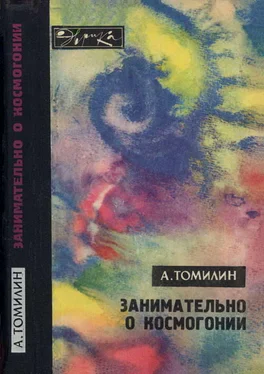

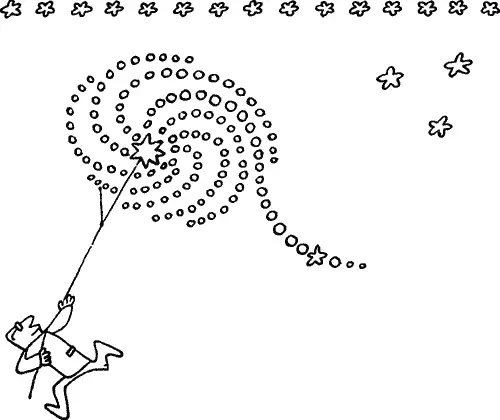


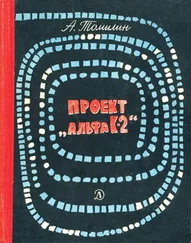
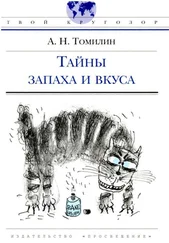
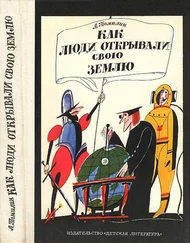

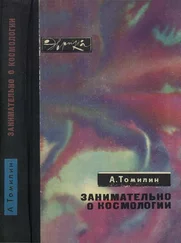
![Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]](/books/196773/anatolij-tomilin-hochu-vse-znat-1970-thumb.webp)