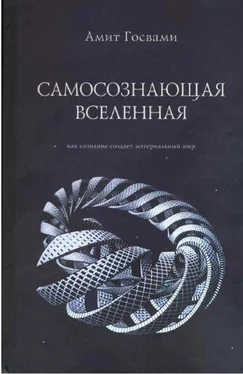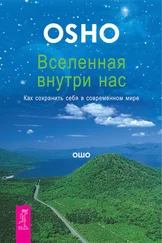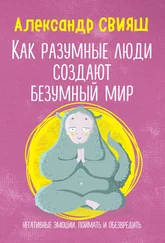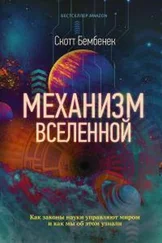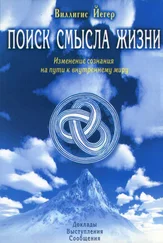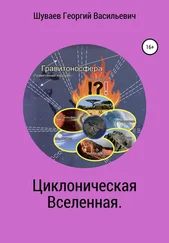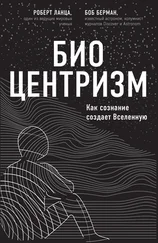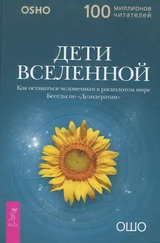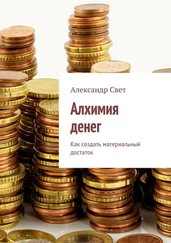Если не слишком вдаваться в технические подробности, можно констатировать, что линейные и избирательные классические функционалистские модели без труда объясняют действие преднастраивающего контекста в случаях, когда не используется маскировка, но не могут объяснять значимое изменение, наблюдаемое в случаях бессознательного восприятия в экспериментах с использованием маскировки. То же справедливо и для теорий неизбирательной параллельной переработки. Их можно приспособить к тому или другому набору данных — к случаям сознательного восприятия или бессознательного восприятия, — но они не могут логически последовательно объяснять оба набора данных. Следовательно, заключает Марсел в упомянутой выше работе, «эти данные [для случаев маскировки] противоречат данным для случаев отсутствия маскировки и качественно отличаются от них». Поэтому различие между сознательным и бессознательным восприятием было проблемой для сторонников когнитивных моделей.
Психолог Майкл Познер предложил когнитивное решение, в котором роль решающего элемента в различии между сознательным и бессознательным восприятием играет внимание. Внимание предполагает избирательность. Таким образом, по мнению Познера, мы выбираем одно из двух значений, когда используем внимание, как в случае сознательного восприятия неоднозначного слова в эксперименте Марсела. Когда мы невнимательны, не происходит никакого выбора. Поэтому воспринимаются оба значения неоднозначного слова, как при бессознательном восприятии слова, замаскированного узором, в эксперименте Марсела.
Так кто включает или выключает внимание? Согласно Познеру, это делает некий центральный процессор. Однако никто никогда не находил в уме-мозге центральный процессор, и это понятие вызывает в воображении картину последовательности маленьких человечков, или гомункулусов, заключенных внутри мозга [57].
Нобелевский лауреат биолог Френсис Крик намекает на эту проблему в следующей истории: «Недавно я безуспешно пытался объяснить интеллигентной женщине проблему понимания того, как мы вообще что-либо воспринимаем. Она не могла понять, в чем же тут проблема. Наконец я в отчаянии спросил ее, как, по ее мнению, она сама видит мир. Она ответила, что, вероятно, где-то у нее в голове есть что-то вроде телевизора. "Так кто же его смотрит?" — спросил я. Теперь она сразу же увидела эту проблему».
Мы тоже можем с ней столкнуться: в мозгу нет никакого гомункулуса, или центрального процессора, который включает и выключает внимание, который интерпретирует все действия ментальных конгломератов, приписывая им значение и настраивая каналы из центрального поста управления. Таким образом, самоотнесение — способность ссылаться на наше «я» как на субъекта нашего опыта — представляет собой чрезвычайно трудную проблему для любых типов классических функционалистских моделей. Мы ищем то, что ищет [58], — эту неотъемлемую рефлексивность так же трудно объяснять в материалистических моделях ума-мозга, как цепь фон Нойманна в квантовом измерении.
Однако предположим, что когда кто-то видит замаскированное узором слово, имеющее два возможных значения, ум-мозг становится квантовой когерентной суперпозицией состояний — каждое из которых соответствует одному из двух значений слова. Это предположение может объяснять оба набора данных Марсела — сознательное и бессознательное восприятия — без привлечения идеи центрального процессора.
Квантово-механическая интерпретация данных по сознательному восприятию заключается в том, что контекстное слово рука проецирует из двузначного слова palm (ладонь/пальма) (когерентной суперпозиции) состояние со значением руки (то есть волновая функция коллапсирует с выбором только значения руки). Это состояние имеет большое перекрывание с состоянием, соответствующим конечному слову запястье (в квантовой механике положительные ассоциации выражаются как большие перекрывания значения между состояниями), и потому распознание этого слова облегчается.
Сходным образом, в квантовом описании инконгруэнтного случая с отсутствием маскировки контекстное слово дерево проецирует из состояния когерентной суперпозиции palm (ладонь/пальма) состояние со значением дерева; перекрывание значения между состояниями, соответствующими дереву и запястью, мало, и потому распознавание затрудняется. При использовании маскировки в обоих случаях — конгруэнтном и инконгруэнтном — слово palm (ладонь/пальма) воспринимается бессознательно, и потому не происходит проекции никакого конкретного значения — никакого коллапса когерентной суперпозиции. Таким образом, можно видеть прямое свидетельство того, что слово palm (ладонь/пальма) ведет к состоянию когерентной суперпозиции, содержащему оба значения этого слова — и дерево, и ладонь (часть руки). Как иначе можно было бы объяснить тот факт, что действие подготавливающего (контекстного) слова в эксперименте Марсела почти полностью исчезает, когда слово palm маскируется узором? [59]
Читать дальше