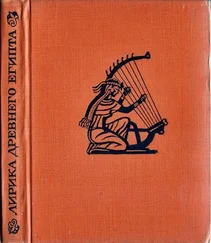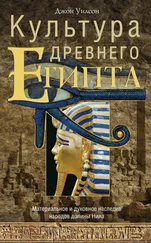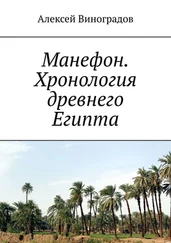Уменьшенные копии водяных и солнечных часов использовались в египетских храмах для вотивных (т. е. приносимых по обету) жертвоприношений. Так, на одном изображении в храме в Луксоре царь Аменхотеп III преподносит богине истины Маат предмет, напоминающий модель водяных часов. Существует параллель этому изображению эллинистического времени в храме в Дендере. По-видимому, здесь мы имеем дело с древней религиозной традицией, детали которой, однако, неясны (Шолпо, 1939; Pogo, 1936, с. 418—422).
Введение 24-часового деления суток.
Установление 24-часового деления суток складывалось под влиянием двух, первоначально не связанных между собой традиций, — определения времени ночью по восходам и кульминациям звезд и при помощи водяных часов и определения времени днем теневыми часами. Объединение этих традиций было достигнуто благодаря водяным часам, которые давали достаточно равномерную и независимую от астрономических явлений шкалу времени, и сопровождалось определенным ростом уровня математической мысли.
Наиболее раннее упоминание о «часах» содержится в одном из текстов пирамиды Униса, последнего царя V династии (XXV в. до н. э.), в котором говорится, что он (т. е. царь) «проясняет ночь и упорядочивает часы» (Faulkner, 1969, с. 101, § 515; Parker, 1978, с, 711). Впервые деление ночи на 12 частей встречается в диагональных календарях времен IX—XII династий. Оно возникло при участии трех моментов: а) календарной системы, в которой год подразделялся на 36 10-дневных недель; б) особого представления о ночи как промежутке полной темноты; в) традиции измерять время ночью по моментам восхода особых звезд, связанных с декадами схематического календаря.
Самое раннее свидетельство о подразделении дня на часы содержится в описании теневых часов из кенотафа Сети I и восходит, по-видимому, к середине II тыс. до н. э. Продолжительность «дня» (т. е. промежутка от рассвета до наступления полной темноты) в этом тексте оценивается величиной 8 + 2 + 2 = 12 часов. Для подобного деления, по-видимому, не существовало других оснований, кроме желания установить симметричное деление для ночи и для дня. Таким образом, текст кенотафа Сети I представляет самый ранний пример деления суток на 24 части. Полученные при этом «часы», однако, имеют неодинаковую продолжительность, меняются сезонно и не связаны с наблюдением восходов и заходов Солнца.
Следующий шаг был сделан в конструкции теневых часов времен Тутмоса III, которые имеют горизонтальную шкалу и предназначаются для измерения 12 дневных интервалов в промежутке от восхода до захода Солнца. Возможно, здесь мы впервые встречаемся с новой трактовкой дня как промежутка, определяемого моментами восхода и захода Солнца. Если это верно, то измеряемые с их помощью интервалы по своему смыслу близки «сезонным часам» эллинистического времени (EAT, I, с. 120—121).
В дальнейшем развитие шло по следующим четырем направлениям.
1. Наблюдая сезонные изменения продолжительности ночи, египетские астрономы нашли, что отношение длин наибольшей и наименьшей ночи в году М/т =14/12. Впервые оно встречается при описании водяных часов в гробнице Аменемхета и затем регулярно используется в конструкции шкал водяных часов, а также в линейных схемах для определения продолжительности дня и ночи (EAT, III, с 46; Pogo, 1936). В одном важном тексте рамессидского периода принято отношение М/т =3/1, которое, как показал О. Нейгебауэр, «абсолютно невозможно для какой-либо местности в Египте, если «день» означает интервал от восхода до захода Солнца». Это отношение, однако, приобретает реальный смысл, если сравниваются промежуток полной темноты в день летнего солнцестояния, как он определялся восходами деканов (~6h), и соответствующий ему интервал в день зимнего солнцестояния (~18h) (EAT, I, с. 119—120). Таким образом, здесь мы опять встречаемся с концепцией ночи, не связанной с моментами восхода и захода Солнца.
2. Изменения продолжительности дня и ночи из месяца в месяц описываются в ряде текстов линейной схемой. В течение первых шести месяцев продолжительность дня (или ночи) возрастает линейно с постоянной разностью от наименьшей величины в день зимнего (летнего) солнцестояния до наибольшей в день летнего (зимнего) солнцестояния, а в течение следующих шести месяцев уменьшается линейно до первоначальной величины. Сохранились таблицы, в которых приведены месячные (или полумесячные) значения продолжительности дня и ночи, построенные согласно этой схеме. Самые ранние таблицы этого типа восходят ко времени Рамессидов (EAT, I, с. 119—120), другие — к Позднему периоду (EAT, III, с. 46). Эти таблицы служили, по-видимому, для построения месячных шкал водяных и солнечных часов. Схемы линейного изменения длины дня и ночи имеют, возможно, вавилонское происхождение, но отражают также влияние местной традиции. Используемые в них отношения М/т отвечают египетским, а не вавилонским определениям длины дня и ночи.
Читать дальше


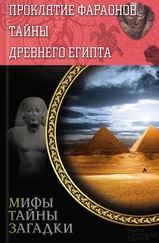
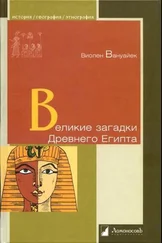

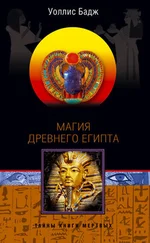
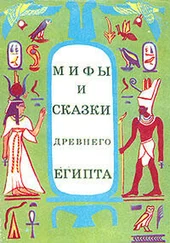
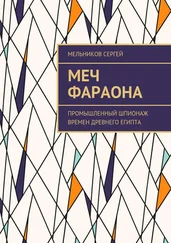
![Крис Нонтон - В поисках гробниц Древнего Египта [Тайны Нефертити, Александра Македонского, Клеопатры]](/books/395294/kris-nonton-v-poiskah-grobnic-drevnego-egipta-taj-thumb.webp)