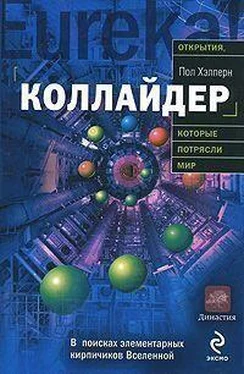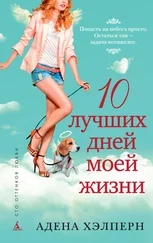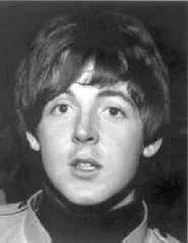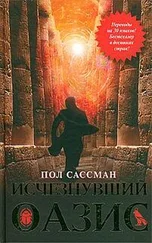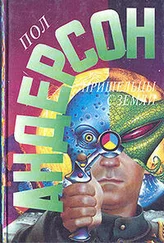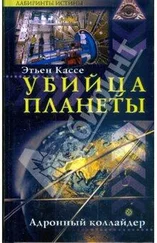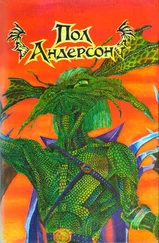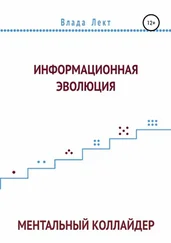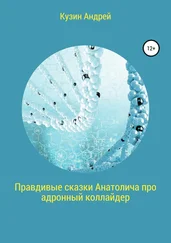Пауэлл потом вспоминал: «Когда мы привезли их [фотопластинки] в Бристоль и проявили, мы со всей очевидностью увидели: перед нами открывается новый, неизведанный мир. После проявки в следе от медленного протона выступило столько зерен, что он напоминал серебряный жезл, а крошечный участок эмульсии под микроскопом кишел осколками от столкновений частиц, которые по энергии значительно превосходили все то, что тогда удавалось получить искусственным путем. Было такое ощущение, будто мы вторглись в крытую оранжерею, где под защитой крепких стен нежатся деревья, усыпанные наливающимися соком экзотическими фруктами» 44.
Среди всего этого разнообразия внимание ученых привлекла одна частица средних размеров, которая останавливалась и превращалась в другую. Словно обычный мюон появлялся из чуть более тяжелой разновидности. Однако к тому времени из ряда экспериментов было хорошо известно, что, распадаясь, мюон рождает электроны, но никак не другие мюоны. Поэтому экспериментаторы заключили, что родительская частица должна иметь иное происхождение. Авторы открытия дали ей имя «пи-мезон» (коротко его теперь называют просто пионом). Именно его вскоре отождествили с предсказанным Юкавой переносчиком ядерных сил.
Примерно в это же время Джордж Рочестер из Манчестерского университета на изображениях, полученных в камере Вильсона, обнаружил более тяжелую разновидность мезона, нейтральный каон. В его распаде, оставляющем след в форме буквы V, рождается два пиона: положительно и отрицательно заряженный. Физикам не составило труда понять, что пионы и каоны бывают трех типов: положительные, отрицательные и нейтральные, причем нейтральные каоны сами делятся на два класса с разным временем жизни.
Открытие мезонов имело настолько большое значение, что Нобелевская премия прилетела в руки к Пауэллу со скоростью света - в 1950 г., всего три года спустя. А Оккиалини в 1979 г. была присуждена еще одна престижная награда, Премия Вольфа. Вторым лауреатом в том же году стал Георг Уленбек.
Достижение бристольских ученых ознаменовало собой расцвет эпохи Кавендиша в экспериментальной физике элементарных частиц. А подавляющим большинством результатов, полученных с 1950 по 1970 г., мы обязаны американским ускорителям, особенно потомкам лоуренсовского циклотрона. Итогом бурного периода экспериментов стало осознание того, что «оранжерея элементарных частиц» и правда изобилует причудливыми фруктами.
Пока в физике высоких энергий - так стали называть экспериментальную ветвь физики элементарных частиц - число регистрируемых субатомных событий росло не по дням, а по часам, многие физики-ядерщики примкнули к астрономам, чтобы вместе понять, как образуются природные химические элементы. В 1939 г. вышла знаковая статья физика Ганса Бете «Генерация энергии в звездах». В ней Бете продемонстрировал, что источником звездной энергии может служить термоядерный синтез, процесс слияния мелких ядер в более крупные. Два ядра водорода превращаются в дейтерий (тяжелый водород), дейтерий подбирает еще одно ядро водорода и дает гелий-3, и, наконец, два гелия-3 сливаются в гелий-4 с испусканием пары протонов - таковы основные звенья цикла, благодаря которому звезды вырабатывают свою гигантскую энергию и светят. Бете предложил и другие циклы с участием более тяжелых элементов (скажем, углерода).
В 1948 г. Георгий Гамов (уже сотрудник Университета им. Джорджа Вашингтона), подавая в печать свою с Гансом Алфером статью «Происхождение химических элементов», в качестве шутки вписал Бете в соавторы. Хотя истинными авторами являлись Алфер и Гамов, они прибегли к имени Бете, чтобы получилось созвучие с первыми тремя буквами греческого алфавита (альфа, бета, гамма). Иногда эту работу называют «алфавитной статьей».
Главной предпосылкой теории Алфера и Гамова о зарождении элементов является представление о том, что Вселенная возникла из невероятно плотного и сверхгорячего состояния, которое Фред Хойл прозвал Большим взрывом. (Хойл, будучи противником теории Большого взрыва, пытался выбрать название пообидней [20], но оно тем не менее прижилось.)
Гипотезу о том, что Вселенная когда-то была безумно маленькой, первым высказал бельгийский математик и священник Жорж Леметр. Серьезный фундамент под нее подвели наблюдения американского астронома Эдвина Хаббла, обнаружившего, что далекие галактики от нас удаляются, а следовательно, пространство расширяется. Алфер и Гамов предположили, что гелий, литий и более тяжелые элементы вышли из огненного горнила новорожденной Вселенной.
Читать дальше