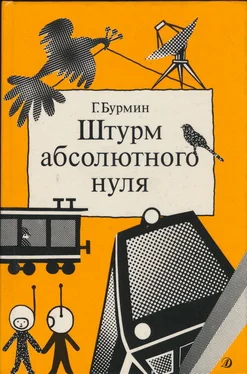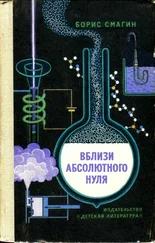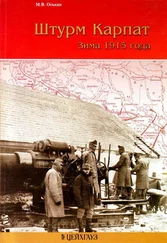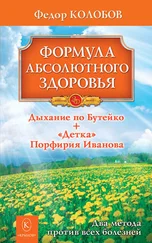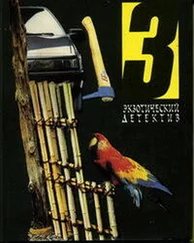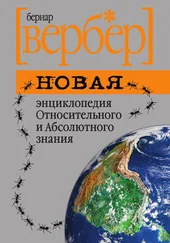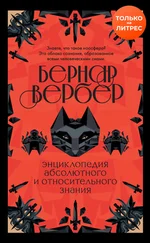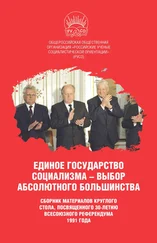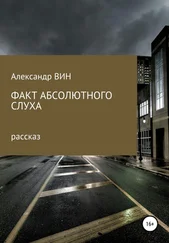Один из способов измерения вязкости заключается в измерении скорости вытекания жидкости из капилляра под действием силы тяжести.
Скорость жидкости имеет наибольшую величину в средней части капилляра и убывает при приближении к стенке. Различные слои жидкости движутся с разными скоростями: между ними действуют силы трения, от величины которых зависит скорость вытекания.
Проведя тщательные эксперименты по измерению вязкости жидкости таким способом, Капица установил, что гелий II протекает через капилляры диаметром в сто тысячные доли сантиметра практически без сопротивления.
Для того чтобы повысить чувствительность метода, Капица заменил капилляр длинной узкой щелью шириной в полмикрометра, через которую можно было пропускать большие массы жидкости. Через такую щель гелий I протекал едва заметно, а гелий II преодолевал это препятствие за несколько секунд.
Измерения показали, что вязкость гелия II не превышает одну триллионную долю пуаза [4] Пуаз — единица измерения динамического коэффициента вязкости (коэффициента внутреннего трения). Вязкость воды при 20 °C равна одной сотой пуаза.
, что, по крайней мере, в десять тысяч раз меньше вязкости наименее вязкого из всех известных в природе веществ газообразного водорода.
Практически гелий II — жидкость с нулевой вязкостью.
Это открытое ученым в 1938 году замечательное свойство гелия II Капица назвал сверхтекучестью.
Пройдет сорок лет. Капица завершит свои исследования свойств гелия II. Но жизнь ставит перед пытливыми исследователями все новые задачи.
Капица исследует природу шаровой молнии, разрабатывает новое направление в технике — электронику больших мощностей, усиленно работает над проблемой номер один современной физики — освоением управляемых термоядерных реакций. В решении этих и многих других проблем он добивается выдающихся результатов. Заслуги ученого высоко оценены советским правительством и мировой научной общественностью. Дважды ему присуждается Государственная премия I степени. Он дважды Герой Социалистического Труда. Международные награды: золотая медаль Ломоносова, премия Максвелла, медаль Фарадея, Большая золотая медаль Франклина, золотая медаль Нильса Бора и другие.
О своих криогенных исследованиях Капица, по собственному полушутливому признанию, начал забывать.
…В один из осенних дней 1978 года на стол директора Института физических проблем референт, как обычно, положил увесистую кипу корреспонденции. Тут свежие номера отечественных и зарубежных научных журналов, письма зарубежных коллег, многословные служебные циркуляры… Среди них не сразу можно было разглядеть небольшой телеграфный бланк.
Вот что выстучал бесстрастный телетайп:
«Дорогой академик Капица!
Мне доставляет удовольствие сообщить Вам, что Шведская королевская академия наук решила сегодня присудить Нобелевскую премию по физике в двух равных частях. Одну часть решено присудить Вам за Ваши фундаментальные исследования в области физики низких температур, а другую часть поровну разделить между доктором Арно Пензиас и доктором Робертом Уилсоном (США) за открытие ими фонового микроволнового излучения из космоса.
О. Б. Бернард, генеральный секретарь».
Вернемся, однако, к дням, ставшим ныне достоянием истории.
В то время, когда Капица у себя в лаборатории наблюдал, как через узкую щель с почти молниеносной быстротой проскакивал проворный гелий II, канадские физики из Торонто исследовали вязкость этого вещества другим способом, который заключается в измерении времени затухания крутильных колебаний диска, подвешенного на упругой струне в жидком гелии.
Жидкость вблизи диска увлекается его движением, а вдали практически находится в состоянии покоя. Различные слои жидкости перемещаются с разными скоростями, и возникающая при этом сила внутреннего трения приводит в конце концов к тому, что энергия колебаний превращается в тепло. Зная время затухания колебаний диска, можно определить вязкость.
Эксперименты, проведенные канадскими физиками, показали, что гелий II имеет вполне определенную и измеряемую вязкость.
В чем же здесь дело?.. Неужели это потому, что климат в Канаде отличается от московского?
Капица повторяет эксперименты своих канадских коллег, и крутильные колебания диска затухают с такой же интенсивностью, как и в далеком Торонто.
Это, пожалуй, единственный случай в науке, когда измерения одной и той же физической величины разными методами дали диаметрально противоположные результаты.
Читать дальше