Откуда же у столь малого объекта могла быть такая большая температура? При такой горячей поверхности звезда вряд ли была умирающей, кроме того, по размеру она оказалась гораздо меньше, чем ожидалось. Простой расчёт показывал, что площадь её поверхности в 2800 раз меньше, чем у Сириуса A; следовательно, плотность должна была быть поразительно велика – около 1 т/см 3.
Странный объект, не правда ли? Такой маленький и такой массивный. Чем объясняются его свойства? Ответ был найден только в 1927 году, когда сотрудник Кембриджского университета Ральф Фаулер использовал для решения задачи квантовую теорию. Он понял, что при столь высокой температуре, которую показал спектральный анализ, электроны в атомах должны отрываться от ядер, т.е. в недрах звезды находится море электронов, в котором плавают крошечные ядра. Дело в том, что ядра и электроны, существующие в виде атомов, занимают гораздо больше места, чем они же в виде отдельных частиц. Как в это ни трудно поверить, в основном атомы состоят из пустоты.
«Но и моё тело состоит из атомов, – скажете вы, – что же и я, значит, пустое пространство? А как же тогда мы чувствуем руку, если она – в основном пустота?» Действительно, рука на ощупь довольно плотная, но это связано с тем, что вращающиеся вокруг ядра электроны создают барьер, который мы и ощущаем. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что за электронным барьером почти ничего нет – ядро занимает лишь около одной триллионной внутриатомного объёма. Отсюда следует, что если оторвать электроны от ядер, то при достаточно высоком давлении они будут занимать гораздо меньший объём. Звезда величиной с Солнце при этом могла бы сжаться до размеров Земли.
Но что-то ведь сдерживает это чудовищное давление? Видимо, должна быть какая-то направленная вовне сила, противодействующая колоссальному гравитационному сжатию. В соответствии с известным принципом, предложенным Вольфгангом Паули в 1925 году, каждый электрон занимает определённый объём, причём никаким давлением этот объём уменьшить невозможно. Когда белый карлик достигает такого состояния, при котором все электроны сжаты до своего минимального объёма, дальнейшее сжатие прекращается, ему препятствует давление электронов.
Однако прошли годы, прежде чем на многие вопросы, связанные с белыми карликами, удалось найти ответы. Вот один из таких вопросов: все ли звёзды в конце концов становятся белыми карликами, а если нет, то что с ними случается? Молодой индиец Субраманьян Чандрасекар заинтересовался этими вопросами вскоре после того, как в средней школе индийского города Мадраса, где он учился, в 1928 году побывал немецкий физик Арнольд Зоммерфельд. После окончания школы Чандрасекар решил поехать в Кембридж, чтобы работать вместе с Фаулером. Как и Фаулер, он воспользовался квантовой теорией и, кроме того, догадался, что при столь высоких температурах, которые развиваются внутри белых карликов, частицы приобретают огромные скорости, из-за чего приходится использовать специальную теорию относительности.

Субраманьян Чандрасекар (1910-1995)
Следуя Фаулеру, он показал, что давление электронов остановит сжатие звезды с массой, примерно равной солнечной. Затем в течение миллиардов лет она будет находиться в устойчивом состоянии, медленно излучая в пространство оставшуюся энергию и постепенно остывая. Но вот для более массивных звёзд Чандрасекар обнаружил нечто странное: давления электронов недостаточно, чтобы остановить сжатие. При массе звезды около 1,4 масс Солнца электроны уже не в состоянии противодействовать сжатию. Теперь мы называем это значение критической массой.
По приезде в Англию Чандрасекар обсудил свои результаты с Фаулером и другим хорошо известным астрономом Е. А. Милном. Оба они отнеслись к понятию критической массы весьма скептически, ведь по сути дела Чандрасекар показал, что в массивных звёздах электронный «газ» никогда не сжимается до своего минимального объёма, иными словами, это означало, что он никогда не становится «вырожденным», а значит, не может удерживать звезду от сжатия. Получалось, что однажды начавшееся сжатие будет продолжаться бесконечно.
Чандрасекар продолжал работать над этой проблемой и в 1933 году закончил свою диссертацию. Он был избран членом Тринити-колледжа и оставался в Кембридже на протяжении ряда лет. В это время он познакомился с Эддингтоном, который живо заинтересовался его работой и справлялся о ней чуть ли не каждый день. Чандрасекар относился к Эддингтону с большим уважением, ведь тот был одним из титанов астрономии. Новаторская работа по внутренней структуре звёзд принесла Эддингтону мировую известность.
Читать дальше
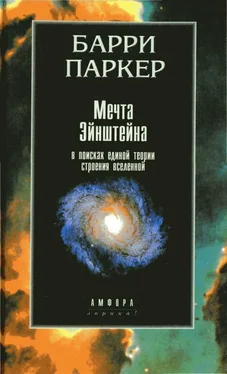






![Константин Образцов - Единая теория всего. Том 1. Горизонт событий [litres]](/books/414295/konstantin-obrazcov-edinaya-teoriya-vsego-tom-1-go-thumb.webp)





