Остаются и другие фундаментальные трудности. Прежде всего, новые теории должны объяснять, почему существуют различные частицы, т.е. почему у них разные свойства (например, заряд, масса); пока это не удаётся. В других теориях, связанных с квантовой (о них речь пойдёт дальше), удалось довольно близко подойти к решению этой проблемы. Но есть ещё одна серьёзная трудность, которой мы пока не касались. До сих пор упоминались лишь гравитационное и электромагнитное поля. В то время, когда Эйнштейн работал над своей теорией, были известны только эти два поля, но, как говорилось в гл. 1, есть ещё два – сильное и слабое. В полноценную единую теорию поля должны быть включены и они.
Мы с вами видели, как учёные старались расширить сферу применения общей теории относительности в надежде добиться объединения гравитационного и электромагнитного полей. Их попытки отличались изобретательностью, и иногда, казалось, что они вот-вот достигнут цели, но всё же слить эти два поля воедино не удалось и по сей день.
Представим себе, что цель достигнута. Означает ли это, что все проблемы будут решены и мы получим единую теорию поля? Вряд ли, ведь ещё два поля останутся в стороне. Более того, нам нужна безотказная теория, а об общей теории относительности этого не скажешь; известно, например, что она не работает в мире атомов. Не годится она и для описания явлений, возникающих при очень высоких плотностях. Имеются в виду вовсе не те относительно высокие плотности, с которыми иногда приходится иметь дело в повседневной жизни. Речь идёт о таких плотностях, которые возникают в экстремальных космологических условиях.
Итак, наша задача – разобраться в том, где общая теория относительности перестаёт работать и почему это происходит. Для этого лучше всего обратиться к обыкновенным звёздам. Из всех звёзд нам лучше всего знакомо, конечно, Солнце, поэтому с него мы и начнём. Через фильтр Солнце выглядит как плоский сияющий диск, на котором всё спокойно. Но если с помощью соответствующего прибора рассмотреть его поверхность повнимательнее, глазам предстанет море горячего, непрерывно клубящегося газа. Иногда бурление становится настолько интенсивным, что с поверхности с огромной скоростью выплескиваются гигантские постепенно поворачивающие к светилу потоки. Распространяясь вдоль силовых линий магнитного поля, они вытягиваются на несколько тысяч километров, а потом обрушиваются на поверхность Солнца.
Но не всё извергнутое вещество падает обратно на Солнце. Иногда сильнейшие всплески выбрасывают частицы далеко в пространство, те покидают окрестности Солнца и несутся сквозь Солнечную систему.
Что вызывает такие грандиозные бури? В поисках ответа на этот вопрос нам придётся заглянуть внутрь Солнца. Там газ ещё горячее, чем на поверхности, и чем ближе к центру, тем выше его температура. Швейцарский астроном Якоб Эмден первым предположил, что Солнце, может целиком состоять из газа, но впервые разработал математическую модель строения звезды английский астрофизик Артур Эддингтон.
Эддингтон
Эддингтон был загадочной личностью. Несмотря на свою гениальность и репутацию великого астронома, в конце жизни он совершал странные поступки. Как и многие крупные учёные после него, Эддингтон в конце концов обратился к проблеме объединения общей теории относительности и квантовой теории. Венец его творения, книга «Фундаментальная теория», была доступна немногим (чтобы не сказать никому), а сейчас вызывает разве что любопытство.
Эддингтон родился в 1882 году в Вестморленде, Англия. Его родители были квакерами. Отец, директор местной школы, умер, когда мальчику было всего два года, и воспитывала его мать. Математические способности Артура проявились рано: он сначала освоил таблицу умножения до 24 ? 24, а потом уже научился читать. В десять лет он ночи напролёт просиживал у телескопа, зачарованный открывавшимся зрелищем.
В школе он завоевал множество наград и в конце концов получил стипендию, которая позволила ему продолжить обучение в Манчестерском университете. По приезде в Манчестер Эддингтон с удивлением узнал, что слишком молод для того, чтобы стать студентом (ему было пятнадцать лет). К счастью, кто-то проявил прозорливость, и для него было сделано исключение. Из Манчестера он перебрался в кембриджский Тринити-колледж, знаменитый своим экзаменом по математике – трайпосом (если помните, раньше его сдавал и Максвелл). Эддингтон сдавал этот экзамен в конце второго курса и, оказавшись лучшим, получил звание «старшего рэнглера» – студента, особо отличившегося на экзамене. Кроме него, никому не удалось добиться такого успеха за столь короткий срок.
Читать дальше
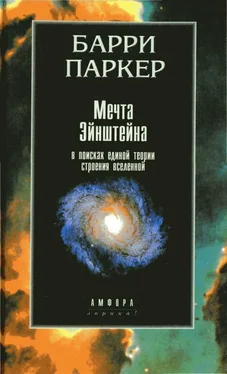





![Константин Образцов - Единая теория всего. Том 1. Горизонт событий [litres]](/books/414295/konstantin-obrazcov-edinaya-teoriya-vsego-tom-1-go-thumb.webp)





