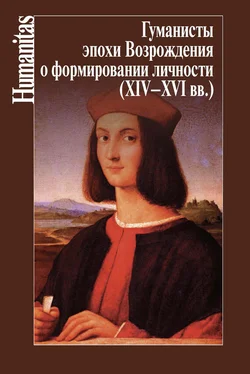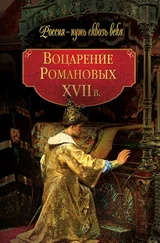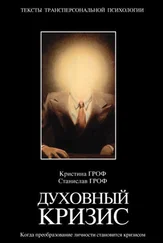Не меньшую надежду на то, что станут добродетельными, следует возлагать и на тех, кто по природе добросердечен и склонен к примирению. В душе ведь есть нечто подобное тому, что и в теле. Как признак доброй телесной природы – не испытывать отвращения ни к какой пище, но легко принимать желудком все, что предлагают, и переваривать для питания членов, так и признак души, хорошо устроенной от природы, – не иметь ни к кому ненависти или пренебрежения, но все, что говорится или делается, принимать с лучшей стороны. И многие другие признаки можно узнать именно таким способом из поведения.
Что же касается телесного вида, то Аристотель писал, что слабые телом способны умом [78]. О прочем следует посоветоваться с теми, кто заявляет, что по лицу каждого можно определить природные способности и нрав – способ, который мы здесь обойдем молчанием. Но, как уже говорилось, на основе врожденных свойств часто можно распознать, в каких мужей мы превратимся из юношей. Ведь в некоторых детях природа с раннего детства показывает, как украшение, признаки будущей добродетели, и потому мы называем юношами с добрыми врожденными свойствами тех, которые, судя по выражению их лица, жестам и прочим движениям, кажутся подающими добрую надежду [79].
Как этим юношам позорно обмануть ожидание людей, так достойны хвалы те, кто без всякого знака сделался тем не менее добродетельным, подобно некоему сорту яблок, сохраняющему под безобразной и грубой кожурой сладкий вкус. Поэтому похвален совет Сократа юношам [80]– часто смотреть на свое изображение в зеркале с той именно целью, чтобы те, кто обладает достойной внешностью, не обезображивали свое лицо пороками, а те, которые кажутся уродливыми на вид, позаботились бы с помощью добродетелей сделаться красивыми. Но, пожалуй, они смогут достигнуть того же самого в большей степени, если будут смотреть не столько на свое лицо, сколько на нравы и живое подобие добродетельного человека. Ведь если П. Сципион и Кв. Фабий говорили, что их сильно вдохновляет созерцание изображений выдающихся мужей [81](а к этому обычно прибегали чуть ли не все благородные духом люди), и если подобное занятие вдохновило на высшее из деяний Юлия Цезаря, увидевшего изображение Александра Македонского [82], то что произойдет, когда предметом созерцания будет живой пример? Впрочем, возможно, образы предков больше побуждают души стремиться к славе, потому что присутствие самого человека славу большей частью умаляет и живущим обычно сопутствует зависть.
По крайней мере, для примера добродетели и нравов и для любого обучения живой голос и нравы живого человека важнее. Поэтому целеустремленный юноша, которого побуждает желание добродетели и истинной славы, должен выбрать кого-то одного или нескольких из уважаемых им честнейших людей, чтобы подражать им в их жизни и нравах, насколько позволит ему возраст. А эти люди и прочие старшие по возрасту должны всегда помнить о серьезности и скромности и более всего соблюдать их перед младшими. Ведь юный возраст склонен к заблуждениям, и если не удерживать юношей примером и авторитетом старших, то они всегда легко соскальзывают к худшему.
Поскольку возрасту юношей, как и остальным возрастам, присущи особые нравы, то добрые нравы следует укреплять и поддерживать практикой и наставлениями, а дурные и непохвальные – исправлять; из них одни зависят только от природы, другие – от недостаточного опыта, третьи – от того и другого [83]. Во-первых, от природы юноши щедры и расточительны, потому что не испытывали нужды и не добывали себе средств собственным трудом; обычно ведь не бывает, чтобы тот, кто собрал средства своим трудом, легкомысленно их растрачивал. Равным образом потому, что у них в избытке жар и кровь, необходимые не только для питания тела, но и для роста; в стариках же – наоборот, в результате действия противоположной причины. Каким же стариком ожидаем мы увидеть с годами того, кто в юности был скуп и алчен? Говорю это, впрочем, не для того, чтобы юношам позволить щедрость, которую они не умеют проявлять в своем возрасте и не различают, что, кому и за какие заслуги подарить, а потому, что алчность – это свойство испорченной природы и неблагородного ума. Эти, т. е. склонные к алчности, пригодны к прибыльным занятиям – ручному труду, торговле или к управлению семейным имуществом. Правда, они, даже если когда-нибудь овладевают более благородными искусствами, почти всегда сведут их, как и все прочее, к неблагородной прибыли; благородным же умам это дело вовсе чуждо.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу