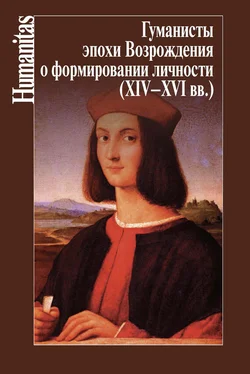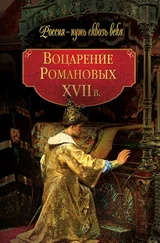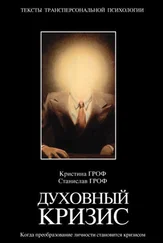Итак, возвращаясь к прерванной нити изложения, я утверждаю, что нет никаких оснований считать, будто те действия, которые мы совершаем по своему выбору и умению, животные делают по естественной склонности и по принуждению. На основании сходства действий мы должны заключить о сходстве способностей и признать, что животные обладают таким же разумом, что и мы, действуя одинаковым с нами образом…
Мишель Монтень . Опыты в трех книгах. Книги первая и вторая. 2-е изд. М., 1979. С. 209–210, 233–234, 376–379, 390, 392, 394–395, 398.
Пер. первой книги А. С. Бобовича. Пер. второй книги и комм. А. С. Бобовича и Ф. А. Коган-Бернштейн
Хуан Луис Вивес(1492–1540) – крупнейший испанский гуманист и философ. Родился он в Валенсии, но с 17 лет жил вне Испании. В 1509–1512 гг. учился в Парижском университете, однако схоластическое преподавание оттолкнуло его, и он, оставив Париж, отправился во Фландрию. Позже против схоластов Сорбонны написал книгу «Против псевдодиалектиков» (1519). Преподавал в университете Лувена, где читал Вергилия и Цицерона, «Естественную историю» Плиния и «Географию» Помпония Мелы. В это время он познакомился и подружился с Эразмом. Постоянным местопребыванием гуманиста стал Брюгге.
В 1523 г. Вивес был приглашен в Англию преподавать гуманитарные науки в Оксфорде (1523–1527). Как испанец, он пользовался покровительством королевы Екатерины Арагонской, посвятил ей трактат «О воспитании христианки» (1523), ставший очень популярным, был приглашен наставником принцессы Марии, для которой написал небольшой учебник основ латинского языка. В 1529 г. он был вынужден уехать из Англии, так как в бракоразводном процессе короля Генриха VIII занял сторону королевы.
Последующая жизнь в Брюгге была посвящена преподаванию и активной творческой деятельности. Были написаны книги: «Об учениях», «О согласии и розни человеческого рода», «О душе и жизни» и др., в которых он развивал мысли об общественной школе, о роли матери в образовании детей; но особенно ценны его психологические наблюдения над ребенком, изучение особенностей его памяти, темперамента, попытки приспособить гуманистические науки к возможностям ребенка. Он обсуждает роль в преподавании родного языка как моста к древним, расширяет понимание знания за счет включения знаний о природе, шире вводит в обучение современную литературу. Педагогические работы Вивеса имели широкое распространение, его «Практика латинского языка» (1539 )выдержала за полвека 49 изданий.
«Об учениях» (1531) – главная работа Вивеса. Это огромный труд, представляющий собой размышления автора о культуре, ее роли, развитии, причинах упадка и возрождении. Приводимые ниже фрагменты первой части работы, известной под названием «О причинах упадка искусств», интересны отношением гуманиста к древней культуре, которую он воспринимает с достаточной долей критики, а также указанием на нетворческое отношение людей его эпохи к знаниям, на скованность мысли тем или иным авторитетом. Вивес против того, чтобы отдавать «себя и свой разум как в рабство определенной школе», он за творческое восприятие знаний, за развитие науки.
Н. В. Ревякина
О причинах упадка искусств
<���…> Не то что древние не завещали нам великих богатств; но только и мы, если бы постарались, могли бы оставить нашим потомкам не меньше, а то и больше, потому что нам помогали бы и их открытия и новоприобретенная сила суждения. Неверно и глупо кем-то придуманное сравнение, которому многие приписывают великую тонкость и глубину: «По отношению к древним мы – карлики, взобравшиеся на плечи великанов». Это не так. И мы не карлики, и они не великаны, а все мы люди одного роста, и благодаря их наследству мы можем даже подняться чуть выше, лишь бы только сохранить их деятельную страсть, горение духа, доблесть и любовь к истине. Но если у нас и не будет этого, мы опять-таки не карлики и не на плечах у великанов, а люди нормального роста, растянувшиеся на земле. Не веря в себя, зажмурив глаза, мы вручаем себя тому, кого сочтем мудрым и всевидящим судьей, причем не лучшему вождю, которого сами бы избрали, а первому, с кем нас сводит случай.
По воле учителей, любящих больше собственную славу, чем истину, все распалось у нас на школы и секты, так что раздорами и как бы гражданской войной невежды теперь вымогают то, чего не могли добиться добрым искусством. Не осталось ни одной науки, не запятнанной партиями и фракциями, не исключая даже богословия, которому это всего меньше пристало. Среди разноголосицы учений добрые и худые, знающие и невежественные учителя понемножку пишут и учат [68], причем каждый с великим упорством защищает свое, и нет такой абсурдной и жалкой секты, которая не нашла бы себе приверженцев.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу