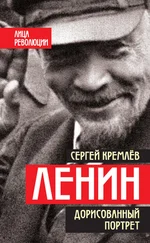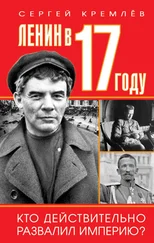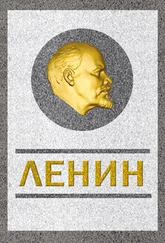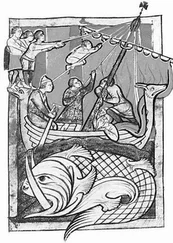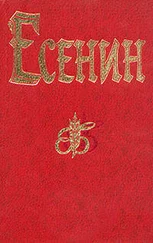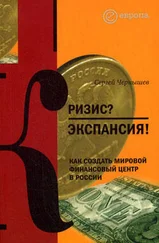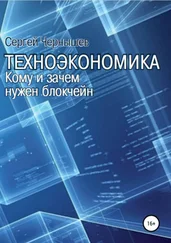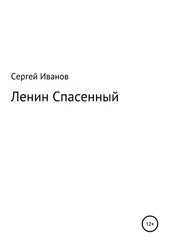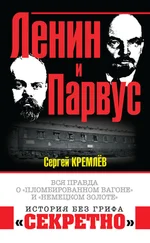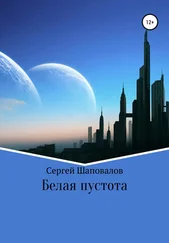Криворотов: Вспомни тезис Кропоткина о революции как о том, что не приносит ничего хорошего стране, в которой это все происходит, но оказывает своим течением, своими уроками, действительно реальное воздействие на весь остальной мир. То же самое произошло и с Французской революцией, абсолютно то же самое.
Ведь Франция от своей революции пострадала ужасно. Фактически биение этих всяких постреволюционных событий продолжалось до Франко-прусской войны, до Наполеона III, он был наследником этого периода. Франция задержалась в развитии и фактически стала выправляться только после Второй мировой войны. Там многие архаические социальные структуры дотерпели до сегодняшнего дня. Тем не менее, Французская революция дала толчок процессу буржуазных преобразований в Европе.
Чернышев: Понятно, опять в Европе, а не у себя. В этом смысле Франция пострадала от революции, а все остальные приобрели. Конечно, то, что у нас стряслось в семнадцатом и происходило в первой половине века, сильнейшим образом повлияло на лицо мира. С.Платонов и многие другие считают, что в итоге во многом это повлияло на становление посткапиталистического современного общества. Как и всякая революция, в конечном счете она играет некую освободительную, где-то прогрессивную, где-то иную роль, но все это справедливо по отношению к кому угодно, кроме нас. В нашем случае все это больше похоже на национальную катастрофу. Поэтому, когда мы смотрим на эту фигуру, надо отдавать себе отчет, с какой точки зрения мы смотрим. С точки зрения всего благодарного человечества, которому приходится кроме наших десятков миллионов ГУЛАГа сталкиваться и с полпотовщиной, с другими вариантами геноцида, эта фигура будет выглядеть совершенно не так, как с точки зрения нашего народа, особенно русского. И та и другая точка зрения совершенно правомерны. Надо лишь четко представлять, с какой колокольни мы на него смотрим. Ибо то, что является хирургической операцией, производимой силами зла над телом какого-то этноса, может этот этнос просто убить, может его затормозить, может его глубоко ранить, но в системе множества этносов это может быть манифестацией свободы, освободительным прорывом будущего в человеческую историю.
Тогда получается, если резюмировать, что мы начали первыми закономерно, формы были закономерны, Ильич все делал закономерно… и вроде выходит, что мы закономерно осуждены как страна на такую странную, дурацкую роль: пострадать за мир, — то, что всегда нам приписывают в качестве нашего идеала или исторической миссии. Первый застрельщик, первый боец — всегда жертва, по Гончарову, то есть мы должны были первыми выпрыгнуть из окопа, заорать и при этом еще застрелиться.
Криворотов: Ну, то есть показать, что прорыв возможен.
Чернышев:Ленин, русский социализм — это вечный вопрос, обращенный к небесам, новый вариант Иова. Какой-то странный героизм, подвиг и страдания, на которые мы закономерно обречены независимо от собственного желания. Здесь все упирается в то, что это вообще вряд ли выразимо в рациональных терминах. Но ведь и раньше люди сталкивались с таким вещами: вот Христос, он сын Божий, но при этом он обречен, Бог его послал на землю и обрек на страдания и смерть. Эта ленинская фигура похожа на призрак: пытаешься ухватить черты конкретного человека — и вечно утыкаешься в вечные вопросы…
Известна в физике великая загадка Тунгусского метеорита. Что-то там прилетело, ахнуло, хряпнуло, лес повалило насколько глаз хватает, возникла дымящаяся воронка, все видели, надо всей Европой небо светилось, мигало, мировая погода испортилась. И вот сотни и тысячи исследователей с рюкзаками, с колбасами копчеными устремляются к эпицентру этого события и ищут, понятное дело, громаднейшую каменюгу, с невиданно блистающими гранями, острыми углами, которая, дымясь, лежит в центре. А обнаруживают в лучшем случае, — когда болото просеяно через самые мелкосетчатые ситечки, — какие-то сомнительные конкреции: то ли это комариный кал, то ли космическая пыль… Метеорита нет. Но лес повален, — это налицо, событие было грандиозное: шарахнуло, рвануло и т. д.
Я совсем в другую сторону повернуть хочу. Я не хочу сказать, что не было глыбы,
— ничего подобного. Но надо смирить нашу естествоиспытательскую гордыню перед этой фигурой, потому что все, кто брались и берутся ныне рассуждать о том, что это был за человек, что за фигура-загадка, — терпят позорнейшее поражение, как и мы с тобой. Так скучно то, что мы наговорили — именно потому, что это пока всего лишь первые убогие попытки разобраться в масштабе события. Загадка Ленина никакого отношения не имеет к вопросу о том, был ли человек по имени Владимир Ильич хорошим или плохим, — это загадка нашей революции, нас самих, национального характера и истории. И вообще, какого бы масштаба события, какую бы абстрактную модель мы ни взяли, — мы вдруг выясняем, что эта фигура является образцово-идеальным примером для иллюстрации. Как бы мы ни размахивались по шкале истории с 17-го года и до Пунических войн, обязательно выясняется, что данная фигура — уникальный пример для разбирательства именно этой модели, этой коллизии, этого вопроса. Если мы берем бердяевскую философию истории, мы там всюду обнаруживаем Ленина. Если мы берем теодицию и проблему предопределения, придумать лучший пример, чем Владимир Ильич — трудно.
Читать дальше