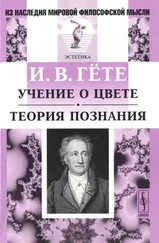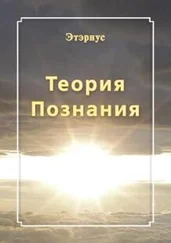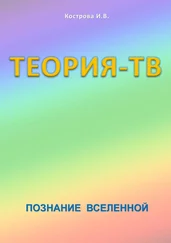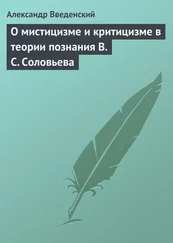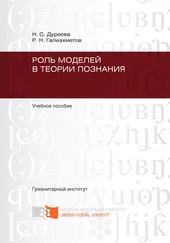Будучи однажды создан и выражен в языке, предмет получает самостоятельную жизнь; но его "жизнь" есть жизнь лишь сущности, но не существования. Он предмет лишь возможного опыта.
"Предмет возможного опыта" следует отличать от чистых трансцендентальных "предметов" (точнее уже не "предметов", а "идей", например, субстанция вообще, причинность вообще и т. д.). Чистые трансцендентальные "предметы" не являются предметами в собственном смысле этого слова, ибо здесь невозможен синтез с чувственностью. Иными словами, относительно них невозможен никакой опыт. Поэтому чистые трансцендентальные категории (например, субстанция, качество, количество, отношение и т. д.) следует отличать от предметов ("чувственных понятий") сущностей в подлинном смысле этого слова. Красную треугольную вещь, например, мы можем представить. Но представление качественно-количественной субстанции вообще невозможно. Она остается лишь "регулятивной" идеей спекулятивного разума. "Абсолютное целое всех явлений есть только идея, так как мы никогда не можем составить представления об этом целом, и потому оно остается проблемою без всякого разрешения".
Итак, предмет имеет эмпирическое происхождение в том смысле, что это чувственная "данность", возведенности и всеобщности понятия. Но став таковым, предмет порывает со своим эмпирическим происхождением и становится условием и правилом всего будущего эмпирического опыта. Он становится образцом, "прообразом" (ср. платоновская идея), идеальным предметом. Будучи произведен однажды, этот предмет - прообраз (ниже мы увидим, что содержание этого прообраза-"схема") бесконечно воспроизводит себя в бесчисленных "ликах" чувственной давности - существования.
Обращение к Платону здесь не случайно. Платон, пожалуй, единственный философ, говоря о котором, Кант считает нужным употреблять эпитет "великий". К слову сказать, в противоположность неокантианцам. Кант не старается "подтянуть" Платона "под Канта". Напротив, он достаточно определенно отграничивает свои "трансцендентальные идеи" от "идей" платоновских. Раздел "Об идеях вообще" он поэтому и начинает с разговора о разных значениях слов, а именно-слова "идея".
Любопытна кантовская характеристика платоновских "идей". Кант, несомненно, весьма одобряет то, что "Платон находил идеи преимущественно в области практической деятельности, т. е. в деятельности, основанной на "свободе". Однако "у Платона идеи суть первообразы самих вещей ("вещей в себе". - Ю. Б.), а не только ключ К возможному опыту, каковы категории". При этом знаменательно, что именно здесь Кант критикует Платона за идеализм! "В этом отношении я не могу следовать за ним, точно так же, как не могу согласиться с его мистической дедукцией идей и с преувеличениями, которые привели его как бы к гипостазированию идей; впрочем, возвышенный язык, которым он пользовался, развивая это учение, вполне может быть заменен более спокойным и более соответствующим природе вещей изложением".
Итак, предмет, согласно Канту, содержащий в себе произвол воображения, не адекватен "вещи самой по себе", бытию, существованию. Но сознательная (т. е. представимая) "встреча" с бытием для человека становится возможной лишь "в горизонте" предметности.
Здесь следует подчеркнуть, что Кант в своем учении о синтезе воображения раскрыл механизм того в общем-то довольно тривиального факта, который с удивлением был обнаружен психологией конца XIX в. и послужил основой целого направления - "гештальт-психологии". Этот факт заключается в том, что образ представления никогда не "слагается" из отдельных компонентов, но, напротив, целостный образ у человека всегда в той или иной форме предшествует осознанию его составных частей. Причем, после представления составных "элементов" (т. е. уже вторичного акта) можно вновь вернуться к целостному образу и уточнять, корректировать его, т.е. признать в нем новый, уже иной целостный предмет, например, уже не круг, но незавершенный эллипс, не дерево, но лишь картонную декорацию, и т. д. На выявлении в эксперименте этого факта, собственно, и начала строится "гештальт-психология".
Этой особенностью представления во многом объясняются и те трудности, которые встают перед кибернетикой, поставившей сегодня задачу сконструировать системы, способные "узнавать" хотя бы самые простейшие (например, буква) образы. Ведь кибернетические системы построены на механическом принципе "комбинирования элементов. Их можно заставить "мыслить", но в них нельзя вложить свободного, "самодеятельного" воображения, они никогда не смогут пред-ставлять.
Читать дальше