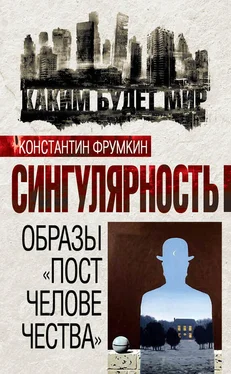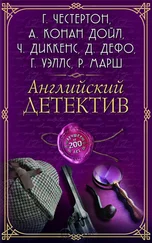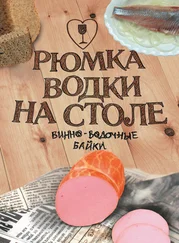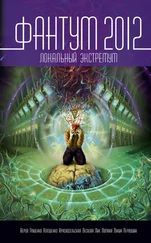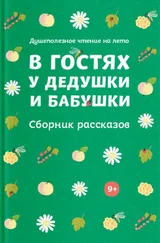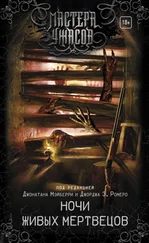И, наконец, зло может быть, оправдано – поскольку оно не нарушает базовые моральные принципы и человеческие права – в таком случае зло может оказаться не более, чем отклонением от нормы.
Очень важно также и то, что даже в том случае, если зло продолжает быть объектом репрессивной социальной практики – искоренения, уголовного преследования и т. д. – оно может быть оправдано с моральной точки зрения и таким образом оно может перестать быть предметом негодования, отвращения, негативного эмоционального отношения.
Как известно, понять – значит простить. Как сказал английский философ Питер Стросон, объективное отношение к человеку, понимание, что он не мог поступить иначе, исключает эмоциональное и моральное отношение к нему. [68]Зло перестает эмоционально и морально осуждаться, если оно может быть научно понято со всеми подробностями – как результат непреодолимых обстоятельств, как плод порочной социальной системы, как результат медицинской, например психиатрической патологии. Маньяк перестает быть исчадием ада, если объясняется как больной человек. В этом смысле можно говорить в широком смысле о «медикализации» зла – то есть о превращении его из результата свободного выбора «злой воли» в бездушный механизм, созданный социальными или природными причинами.
Медикализация зла – очень старый тренд нашей моральной жизни и уже в 19 веке мы застаем Ламброзо, доказывающего, что склонность к преступлению есть врожденное качество и социалистов, доказывающих, что вину за преступления несет дурная среда. Однако, социалисты 19 веке не столько «аннулировали» зло вообще, сколько переносили вину на других – если преступник оправдывался, то моральная ответственность возлагалась на среду и элиту. К 21 веку медикализация идет дальше – если преступление оказывается порождением среды, то сама среда тоже оказывается порождением непреодолимой цепочки исторических причин – поэтому места для моральной вины в этом мире не остается. И это тоже превращает современную мораль в мораль односторонних обязательств.
Мы видим, что моральная сфера незаметно, но неодолимо меняется. Из сферы взаимных обязательств человека перед человеком она превращается в сложную сеть, в которой участвуют не только люди, но животные, природная среда, роботы и искусственный интеллект, человечество и общество взятые в целом, несуществующие ныне прошлые и будущие поколения, организации, корпорации институты, правительства и профессии. Добро превращается в односторонние моральные обязательства, зло и злодеи тяготеют к исчезновению вообще, отклонения от нормы перестают считаться морально предосудительными. Моральные нормы начинают изобретаться, обсуждаться и отменяться. И над всем этим стоит перспектива изменения человека – его образа жизни и его природы – как главная проблема морали, равно как и науки, и политики, и права, и вообще всей современной цивилизации.
Юрий Шушкевич. Генеалогия нового неба. Реконструкция прошлого может стать основной задачей будущих поколений
Грядущее на все изменит взгляд…
Б. Пастернак
Абсолютное большинство футурологических прогнозов по поводу человеческого будущего указывают на чрезвычайно сильное возрастание совокупной технологической мощи цивилизации, распахивающей принципиально новые перспективы и при этом навсегда закрывающей проблему “ насущного хлеба”. Действительно, уже сегодня на одного занятого в высокотехнологичных секторах сельского хозяйства приходятся по 50–100 беспечных едоков, а многие промышленные изделия начинают производиться и вовсе без участия людей. Нет ни малейших сомнений в том, что уже через несколько поколений проблема обеспечения человечества продовольствием и материальными предметами потребления не только будет решена, но и соответствующая сфера деятельности перестанет интересовать 99.9 % живущих на Земле – равно как мало кого сегодня интересует работа насосов городского водопровода или снабжение дворников новым инвентарем.
Будет решена или существенно продвинута вперед также проблема сохранения человеческого здоровья и продления жизни. Люди станут жить по 120–150 лет, большую часть этого времени пребывая в отличных силах и здравом рассудке.
Отсюда непреложный закон ближайшего будущего – высвобождение колоссального количества свободного человеческого времени. Наиболее расхожий ответ на вопрос о том, каким образом человечество это свободное время начнет использовать, сводится к развитию сферы услуг, экономики знаний, когнитивных технологий и просто вольному творчеству. Звучит красиво, однако попытка сформулировать механизм заинтересованности людей в этих прекрасных на первый взгляд вещах наталкивается на ряд серьезных противоречий.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу