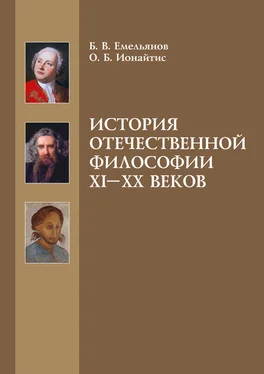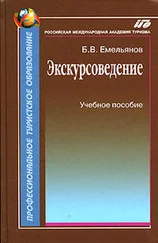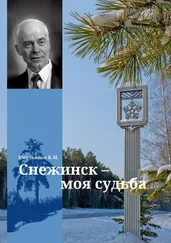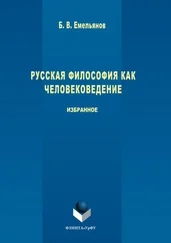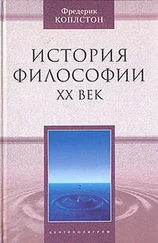В целом мы можем сказать, что русская философия всегда была неразрывно связана с жизнью, поэтому она часто являлась в виде публицистики, которая брала начало в общем духе времени со всеми радостями и страданиями, со всем его порядком и хаосом. Примером чему и является «Поучение» Владимира Мономаха.
Русские книжники в философии искали ответы на вопросы, определяющие бытие отдельной личности и всего общества в целом. В философе видели учителя, мудреца. Поэтому особенностью русской средневековой философии явилось то, что многие мыслители параллельно с литературной деятельностью занимались учительством. Например, Феодосий Печерский обращался к братии и посетителям Киево-Печерского монастыря с поучениями и проповедями, притчами преимущественно философского, этического содержания. В летописях, житиях имеется множество подобных примеров. Вокруг Феодосия Печерского, Авраамия Смоленского, других русских мыслителей собираются собеседники и «совопросники». Именно от них начинается русская традиция учительства и старчества, сыгравшая важную роль в истории отечественной философии. Совместно они обсуждают вопросы познания, «пользы душевной», ищут пути человека в этом мире. Подобное свидетельствует не только о распространении философских идей, но и о заинтересованности общества в них, о понимании философии как науки, отвечающей на актуальные запросы времени и человека.
Мы можем отметить также и такую особенность отечественного средневекового философствования, как ориентацию мыслителей на практическое воплощение своей идеи. Русская философия всегда стремилась стать жизнестроительным учением, причем как для отдельной личности, так и для всего государства. Одной из иллюстраций к данному тезису является процесс формирования и постепенного развития контекстов в культуре средневековой Руси, которые создавались философскими текстами. Исследование этой черты русской философии невозможно без обращения к вопросу о русской книжности и переводных текстах. Язык, на котором писались русские средневековые тексты, оставался почти неизменным на протяжении нескольких веков. И, что особенно важно, церковнославянский текст, произнесенный или написанный книжником, был понятен массе славянского населения средневековой Руси. Поэтому-то книжность как культурный феномен была способна к порождению социокультурного контекста на основе ее идей, так как пониманию между книжником и читателем могло препятствовать многое, но не слово, которое было единым и понятным.
Вопрос заимствования (усвоения, переписки, распространения) христианских текстов – это вопрос заимствования и христианского контекста, так как последний прививался культуре одновременно с усвоением самих текстов. На этом основании можно утверждать, что в культуре средневековой Руси происходило взаимопорождение текста и контекста, то есть через текст встраивался, внедрялся в культуру новый контекст, постепенно расчищая себе пространство среди доминирующего язычества. Поэтому становятся понятными устремления русских мыслителей не просто создать теорию, но и внедрить ее в действительность, сделать действительность и учение тождественными. Тенденция эта начинает проявляться в киевский период, но наиболее полное выражение получает в социальных утопиях Московского царства.
Русская философия XI–XVII вв. – это именно средневековая философия, ей присущи те черты, которые отличают средневековое философствование от других периодов, национальное же выразилось в приоритете и развитии указанных особенностей.
Источники, по которым возможно проследить развитие русской средневековой философии, отличаются значительным многообразием. Источники можно разделить на два больших комплекса, взаимосвязанных и дополняющих друг друга: вербальные и невербальные.
Первые, в свою очередь, могут быть представлены тремя группами текстов. Это, прежде всего, тексты с явно выраженной философской проблематикой. Например, «О философии внимай разумно, да не погрешишь» митрополита Даниила.
Ко второй группе источников относятся многочисленные произведения с морально-назидательной направленностью, сочинения публицистического характера, космологические, естественнонаучные, лексикографические и другие, непосредственно примыкающие к философской литературе и содержащие философскую проблематику. Например, «Повесть временных лет» Нестора Летописца, «Шестоднев» Афанасия Холмогорского. Будучи памятниками летописными, агиографическими, эпистолярными, они содержат философскую терминологию, излагают философские концепции прошлого и настоящего, что свидетельствует о распространении философских представлений в различных сферах сознания общества. Так, в «Повести временных лет» используется философская терминология, раскрываются своеобразная морально акцентированная философско-историческая концепция, учения философов прошлого (гностиков Симона и Менандра, неопифагорейца Аполлония Тианского и многих других). В сочинении Кирика Новгородца «Учение о числах» наряду с математическими, календарными, хронологическими сведениями содержатся различные философские теории.
Читать дальше