В самом деле. Человек, изобретающий нечто новое, нуждается в том, кто это новое сделает частью повседневности. Иными словами, в обществе должны быть люди, заинтересованные в новациях. В том же Китае таких людей практически не было. Все общество было подавлено мощным централизованным государством.
А государство – это не некий монстр, который сидит на центральной площади столицы, и не ангел, витающий меж вдов и сирот с тем, чтобы утешить и накормить их. Государство – это бюрократия, чиновники. Официально, чиновник призван заботиться о том деле, к которому его приставили. И единицы из них пытаются это делать. Но большинство же озабочено лишь тем, чтобы «поиметь» от своей службы как можно больше [4] Коррупция – важнейшая характеристика бюрократии. «Коррупция (от лат. corrumpere – «растлевать») – термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам». (Википедия) Чем шире полномочия государства, тем масштабнее коррупция. Любопытен в этом отношении следующий пример. В 1578 г. англичанин Френсис Дрейк прорвался со своими кораблями в Тихий океан и принялся грабить незащищенный западный берег испанских колоний в Америке. Добыча была фантастической. Единственный уцелевший корабль Дрейка увез в Англию 24 тонны серебра. Груз был столь велик, что корабль вполне мог затонуть под его тяжестью. Современные историки подытожили сумму убытков испанской короны, собрав и проанализировав отчеты испанских колониальных чиновников. Согласно этим отчетам Дрейк похитил 240 тонн серебра. Испанскому правительству почему-то не пришло в голову, что корабль Дрейка был в принципе не в состоянии увезти все эти сокровища. Суда по всему, рейд пирата стал для многих внезапно разбогатевших испанских чиновников настоящим подарком небес.
и при этом угодить начальству – это угождение есть лучший, вернейший способ сделать карьеру. Любая новация для этих людей есть бедствие и головная боль, поскольку она создает массу проблем, которые непонятно как решать, ибо инструкции для решения этих проблем пока еще не написаны – дело-то новое и необычное. Занимаясь новациями, чиновник попадает на весьма опасное поле, где он может себя дискредитировать и лишиться благоволения начальства. Таким образом, вполне естественно, что новации чиновнику не нужны.
Эта проблема хорошо знакома россиянам. И наши «доморощенные теоретики» полагают, что она может быть решена посредством новых, еще более грозных и изощренных директив и политических «внушений». Тщетно. Грозными директивами и усиленными административными внушениями невозможно изменить природу и сущность социальной позиции бюрократии. Не помогут даже расстрелы.
Другой класс китайского общества – крупные землевладельцы. Они живут со своих земель и также не нуждаются в новациях. Они погружены в удовольствия и социальное представительство, и им нет дела до производства. Занятие производством не достойно их статуса.
Для крестьян же новые изобретения опасны, поскольку всякая новация в перспективе может оказаться неудачной. А неудача эта может означать потерю урожая за год или за несколько лет. В итоге – нищета, рабство или голодная смерть. Таким образом, китайский изобретатель остается со своим изобретением невостребованным.
Конечно, в Китае были люди, занимающиеся ремеслом и торговлей, и они могли бы воспользоваться новым изобретением. Но их деятельность была настолько подавлена мелочной регламентацией государства, что любые попытки реализовать новации почти всегда были обречены на провал. Не говоря уже о том, что постоянно существует риск изъятия богатства, добытого торговлей и ремеслом, тороватым государством.
Это схематичное описание социальной структуры, не принимающей новшеств, справедливо не только по отношению к древнему и средневековому Китаю.
Оно справедливо и в отношении подавляющего большинства аграрных цивилизаций. Частичное исключение здесь – средневековая Западная Европа.
В один из июльских дней 1972 года Джаред Даймонд прогуливался по берегу моря с местным политиком по имени Яли. И тот спросил его: «Почему вы, белые, накопили столько карго и привезли его на Новую Гвинею, а у нас, черных, своего карго было так мало?» (26. 23).
Этот вопрос туземного политика сразу отсылает нас к весьма любопытному религиозному культу, возникшему в XIX–XX вв. на некоторых островах Тихого Океана.
Читать дальше
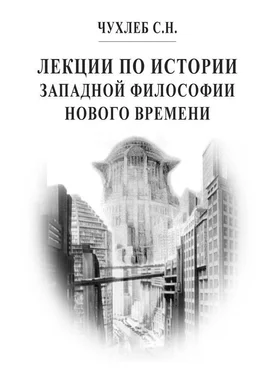






![Энтони Готтлиб - Мечта о Просвещении [Рассвет философии Нового времени]](/books/400117/entoni-gottlib-mechta-o-prosvechenii-rassvet-filoso-thumb.webp)

