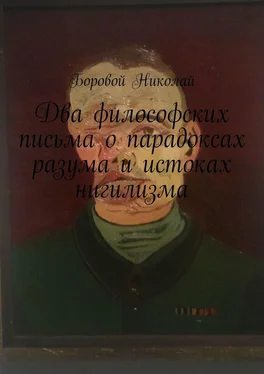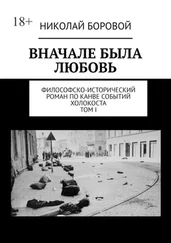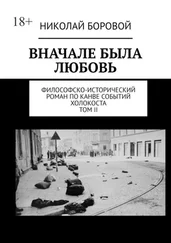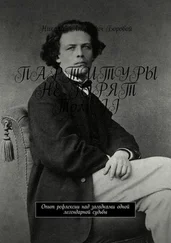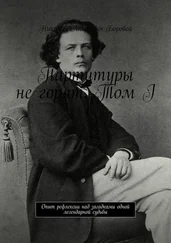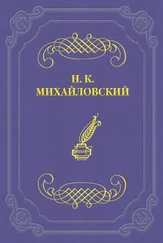Бердяев пишет, что война – это предельная степень обезличенности людей, превращенных в орудия уничтожения, предельность их экзистенциальной отчужденности друг от друга… но как это становится возможным, при каких условиях? Как же это возможно, что бы один человек не мог распознать в «другом» такого же человека, как он сам, судьба и ситуация которого таковы же и настолько же трагичны, как и его собственные? Ты пишешь дословно следующее: «… дело в то, что Homo sapiens гораздо ближе к своим предкам, чем принято считать, и ему постоянно надо делать над собой усилие, чтобы заглушить в себе «голос предков» и стать Человеком или Сверхчеловеком, как говорил Ницше, а не просто двуногим животным, каким он и есть по своей сущности и природе…» … для объяснения подобных вещей не достаточно упрощенного, столь распространенного представления о человеке как «двуногом животном», слегка преображенном цивилизацией, природа которого в любой момент готова «прорваться» и заявить о себе… Прежде всего потому, что та ситуация, которая превращает человека в то, что мы видим на этом снимке – в орудие «ничто», орудие низложения ценности жизни и человека – имеет более глубокий смысл, более глубокие и трагические корни, причины… Подчиняясь установкам «объективистского», «социологического» взгляда на человека, доминирующего в картине мира современности, мы привыкли видеть в обществе фактор, формирующий и очеловечивающий человека, ретранслирующий моральные ценности существования, мы отождествляем моральность и человечность человека с его «социальной нормативностью», с его позитивной и продуктивной социализированностью, способностью разделять нормативные для социальной среды ценности, долженствования, установки… Порочность этой установки по ее сути и последствиям трудно переоценить, ведь разделяя ее, мы фактически отрицаем самобытность человека и его личностное начало, более того – именно в торжестве этой парадигмы человека коренятся истоки того шабаша «массовости» и «безликости», который определяет облик цивилизации уже на протяжении столетия, того тотального довления социальной среды над человеком, которое нередко делает человека орудием «нормативных» для массы и при этом преступных деяний. Поразительно то, что масштабнейшие преступления против человечности, экзистенциальных и гуманистических ценностей, совершались в исторических перипетиях ХХ века внутри и от имени «социальной нормы», с позиций «морали», «системы ценностей и идеалов», подчиняющих себе бытие обществ и индивида внутри социальной среды. Проще говоря, совершались не политическими режимами, а обществами при их пособничестве политическим режимам или активном участии в преступлениях, под покровительством «общественной морали» и довлеющей над общественным сознанием «системы ценностей и идеалов». Парадоксальна и принципиальна та ситуация, когда в исторических реалиях ХХ века «позитивная социализированность» и «социальная нормативность» человека выступает не синонимом, а антитезой его человечности, синонимом его причастности к творимым обществом и властью преступлениям, отдаленности от нравственных истоков человеческого бытия. Бывает, что мы иронично смотрим на ту парадигму, которая на полном серьезе определяет облик цивилизации и бытия человека внутри нее – нет у человека большего смысла и предназначения, нежели «служить обществу», «быть продуктивным и полезным членом общества»… Приученные видеть в этой установке нечто привычное «уму и слуху», логичное для современной картины мира, мы даже не представляем какой подлинный, глубочайший нигилизм она заключает в себе, какое низложение ценности единичного человека и его бытия на самом деле содержится в подчинении безусловной ценности «единичного» ценностям «всеобщим», «коллективным», «социальным». Какой нигилизм заключен в отрицании единичного человека как самодостаточной ценности и цели самого себя, в утверждении его опосредованной ценности, которая измеряется социальной продуктивностью, полезностью и целесообразностью его бытия. Какой опасный, чудовищный по его последствиям нигилизм таит в себе функциональное, социально целесообразное отношение к человеку как «объекту» и «вещи», как к «средству», предназначенному для целей и процветания социального, всеобщего бытия… Как опасна, какой нигилистической силой отрицания пронизана попытка утверждать общество и его институты в качестве безусловной ценности, в соответствии с которой проясняется ценность чего-либо, критерия моральных долженствований.
Читать дальше