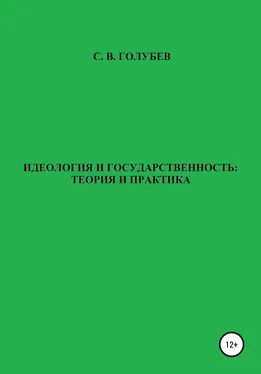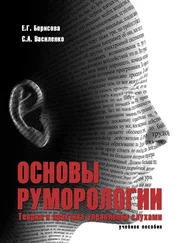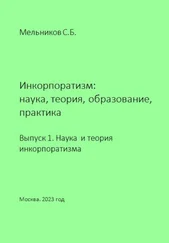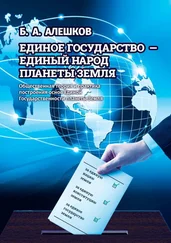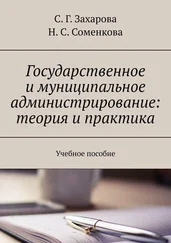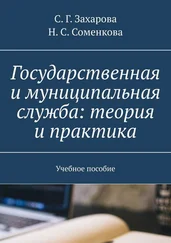В современных идеологиях, всё, и в первую очередь, религия, а также философия, наука, искусство, даже спорт, не говоря уже о морали и праве, – всё это получает политическое измерение. Соответственно, по-новому понимаемая политическая борьба, по самой своей природе, всё глубже проникает во все сферы жизни общества, а её действительной целью оказывается, таким образом, не что иное, как унификация образа мыслей, внедрение в «массы» единообразного понимания высших ценностей. Понимания, которое становится обязательным, в силу того, что основано на «научных закономерностях», а потому не может быть отвергнуто человеком разумным . Неприятие «передового образа мыслей», общей воли народа, нации, человечества и тому подобных идеологических продуктов абстрагирующей деятельности Разума , таким образом, по большому счёту, перестает быть «частным делом», становясь следствием либо неразумия, непросвещенности , либо злонамеренности. 147 147 Показателен в этом отношении пример из нашего недавнего прошлого: новое мышление М. С. Горбачёва. Схожей логикой руководствуются и концепции «национального возрождения», составляющие идеологическую базу правящего класса в некоторых постсоветских государствах.
В первом случае, надо, очевидно, учить, а во втором, как минимум, – «решительно пресекать». Именно такое положение дел, собственно, и пропагандировал Руссо, утверждая, что возможно и необходимо «силой принудить быть свободным», то есть, полагая даже свободу индивида производной от устанавливаемой «Разумом» «Общей воли». Неслучайно Ф. Хайек, с высоты исторического опыта конца 20 века сказал, что Руссо «разработал концепцию свободы, превратившуюся в величайшее препятствие на пути к её достижению». 148 148 Хайек, Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. СПб., 1998. С. 88.
Объективно его учение оказывается, ни чем иным как, идейно-теоретической предпосылкой тоталитарных идеологий «железной рукой загоняющих человечество к счастью». Как верно отмечает Э.Ю. Соловьев, концепция «Общественного договора» Руссо, – «это уже не просто рационально-механистическая модель полицейской государственности, к которой тяготели Гельвеций и Гольбах, это абстрактно-кабинетный набросок того типа власти, который в 20 столетии получил название тоталитаризма» 149 149 Соловьев Э.Ю. Кант: взаимодополнительность морали и права. М., 1992. С. 165.
.
Заметим, что Гельвеций, и Гольбах, также как и все просветители, исходившие в своих политико-теоретических построениях из софистических принципов, закономерно «тяготели к полицейской государственности». Будучи атеистами, они отвергали религиозное санкционирование человеческой деятельности и поэтому совсем как известный персонаж «Бесов» Достоевского, свои теории «начинали с безграничной свободы и заканчивали совершенным деспотизмом». Эта закономерность, проявившаяся в просветительских и последовавших за ними «утопически-социалистических» идеологических конструкциях, была отмечена еще Платоном показавшим, что «из крайней свободы рождается крайнее рабство». Она основана на парадоксе человеческой свободы, который заключается в том, что, только постулируя свою зависимость от Высшей воли, человек может создать условия для индивидуальной свободы, как независимости от произвола себе подобных. По слову Гегеля: «Свобода может существовать лишь там, где индивидуальность признаётся положительной в божественном существе» 150 150 Гегель Г. В. Ф. Философия истории. СПб., 1993. С. 100.
. Иными словами, общество может положить действительный предел индивидуальному и/или групповому произволу, «творческой мысли» социал-конструктивистов, только посредством религиозных установлений. Соответственно, эти последние, как таковые, оказываются необходимым основанием для обеспечения известной степени индивидуальной свободы в рамках человеческого общежития. Этот тезис, как следует из вышеизложенного, подтверждает («от противного») и внутренняя логика развития социально-политической теории основанной на софистических принципах. Логика, согласно которой вытеснение трансцендентного, отказ от религиозной аргументации и апелляции к сакральному, порождает рационалистические абстракции с тенденцией к максимальной регламентации общественной жизни на их базе.
Эта тенденция, как слишком хорошо известно, в полной мере проявила себя в течение ХХ века при «построении» «социалистического общества», но и сегодня, в ХХI она далеко не исчерпала себя. Немало подтверждений этому даёт реальная социально-политическая практика современных демократических, либеральных государств. Специальное рассмотрение различных аспектов и конкретных примеров этой практики будет представлено в другой части работы. Здесь же заметим, что опирающаяся на софистические принципы либеральная теория государства, после Руссо не могла более находить обоснование своих идейных предпосылок в сфере философии, и должна была перенести его на научную почву , вначале, – «политэкономии» и социологии, затем политологии и других, все более конкретных социальных наук . Поэтому, анализ собственно философской традиции осмысления оснований государственности, основополагающих принципов социально-политической организации общественной жизни, может быть завершён. Его результаты позволяют констатировать наличие в истории социально-философской мысли двух принципиально различных, противоборствующих подходов к пониманию происхождения и сущности государства, взаимосвязи идеологии и государственного устройства. Эти подходы представлены именами Платона, Аристотеля и Гегеля с одной стороны, и Протагора, Макиавелли, Гоббса, Руссо, с другой, и, соответственно, могут быть определены, как платоновский или платоновская традиция, и протагоровский или софистическая (софистически-киническая) традиция. Развёрнутое сопоставление фундаментальных философско-мировоззренческих принципов, лежащих в основании этих двух подходов-традиций, может быть представлено в виде таблицы:
Читать дальше