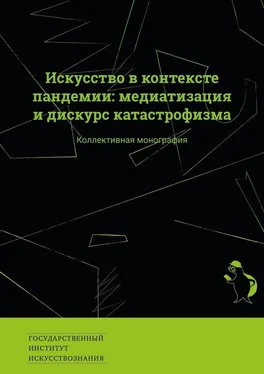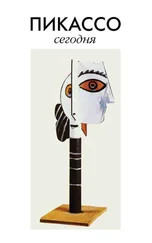В терминах тоталитарной идеологии доступная массам музыка Дзержинского означала естественность, народность и здоровье – нравственное и физическое, а музыка Шостаковича («антинародная») демонстрировала извращение, звериные нравы, психическую болезнь и… цинизм, безнравственность в отношении человека (особенно «простого человека»). Музыка Дзержинского казалась политически ценной, одухотворенной, по-советски человечной (хотя и культурно несовершенной), но это не беда: учиться можно бесконечно! А музыка Шостаковича виделась аполитичной, безыдейной, культурно-изощренной и… бесчеловечной (!). Дзержинский был «свой» в советской тоталитарной культуре, простой и понятный, а Шостакович – «чужой», странный, непонятный и даже враждебный тоталитарной культуре, от которого всего можно было ожидать.
Иван Дзержинский – в рамках советской идеологии – воплощал надежную и ясную политическую ангажированность советского человека, безусловно поддерживающего любые инициативы вышестоящей власти. (Может, даже его фамилия казалась руководству страны «социально близкой»!) А Дмитрий Шостакович в советской системе длительное время воплощал «темное», политически неконтролируемое, бессознательное начало, ассоциировавшееся с биологической подоплекой человека, упорно сопротивляющейся политике, властному дискурсу, а потому оправдывающей творческий индивидуализм и, почти наверняка – политический анархизм. Более того, Шостакович в Советском Союзе довольно долго (и ярко!) символизировал своего рода советское « дегенеративное искусство » (термин германской пропаганды), авангардистский нонконформизм – со всеми вытекающими отсюда последствиями – для искусства, для народа, для вождей и самого творца…
В результате складывался очень своеобразный статус культуры (включая науку, искусство, философию и т.д.) в контексте тоталитарного общества. Культура фактически лишалась собственной ценности и функциональности. У нее было два пути – возвышения и падения : либо культура становилась средством политики (а значит, и частью политики); либо она превращалась (метафорически и буквально) в продукт разложения, презренную биомассу, отходы социально-политического строительства. Тогда она принадлежала физиологии, биологии, медицине, анатомическому театру и служила образцом непригодного к употреблению продукта человеческой жизнедеятельности, обреченного на изъятие, осуждение и уничтожение.
Советская культурология, складывавшаяся в 1970—80-е годы, последовательно отделяла себя от биологии и представляла себя как общественную науку, далекую от естественнонаучных изысканий. Общепризнанный лидер социально-культурных и культурно-антропологических исследований того времени Э. С. Маркарян так определял « культуру »: «Данное понятие, как бы различно его ни понимали и трактовали, так или иначе призвано выразить в современном обществознании своеобразие человеческой жизнедеятельности и провести разграничительную линию между нею и биологическими формами жизни» [29]. Далее, культура рассматривается как один из аспектов сферы социальной жизни («организация культуры», или «структура культуры») – наряду с «социальной организацией» (социальной структурой) и «организацией деятельности» (структурой деятельности) [30].
Сравнивая поведение коллективных организмов (объединений «сугубо биологического порядка») с социальными коллективами, Э. Маркарян утверждал, что для последних характерно «наличие специальной надындивидуальной и внеорганической системы средств накопления, хранения и передачи из поколения в поколение существенно важной для коллективного объединения информации, программирующей действия входящих в него членов». Подобная система средств невозможна «на базе биологических принципов организации жизни». Для организации коллективной жизни необходимы «специфические средства регулирования» – сознание и основанные на нем различные «интенциональные знаковые (символические) системы» [31].
«…Можно сказать, что под культурой, – заключает Э. С. Маркарян, – в самом широком общесоциологическом смысле следует понимать особую систему средств, позволивших, с одной стороны, качественно изменить общие биологические закономерности непосредственно приспособительного отношения к среде, осуществляемого естественными органами особей, путем искусственно созданных посредствующих звеньев – „органов-посредников“ (орудий труда), а с другой – заменить механизм инстинкта как общий принцип организации коллективной жизни в сообществах животных. С этой точки зрения внебиологически выработанная человеком система, воплощенная в мире культуры, выполняет свои функции в двух основных планах: в плане взаимодействия общества (как коллективного субъекта действия) и внешней природной среды и в плане взаимоотношений самих человеческих индивидов…» [32].
Читать дальше