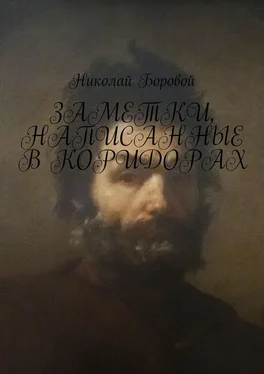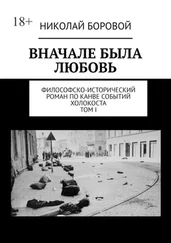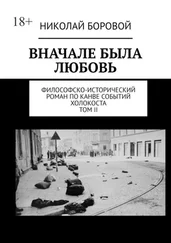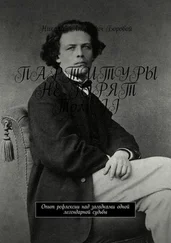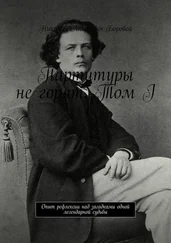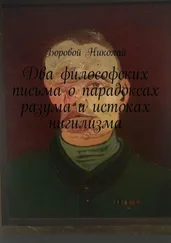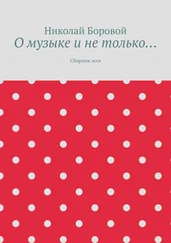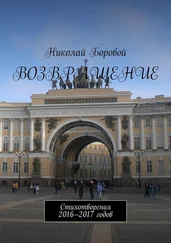Николай Боровой - Заметки, написанные в коридорах
Здесь есть возможность читать онлайн «Николай Боровой - Заметки, написанные в коридорах» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. ISBN: , Жанр: Философия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Заметки, написанные в коридорах
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005047373
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Заметки, написанные в коридорах: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Заметки, написанные в коридорах»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Заметки, написанные в коридорах — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Заметки, написанные в коридорах», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Такой атрибут, как «глобус», привнесен в образно-семиотическую структуру полотна конечно же не случайно. «Глобус» – символ вопроса «о форме земли», и потому же – этот атрибут выступает в полотне символом духовных и мировоззренческих борений времени, наполняющих его, и подчас трагических дискуссий и баталий, олицетворением определившей облик эпохи борьбы церкви и теологии за сохранение авторитета и «власти над умами», а заявляющего о себе, прокладывающего дорогу через костры, анафему и судилища «рационального» и «естественнонаучного» знания – за завоевание и обретение таковых, за отстояние своих прав. Дилемма в сознании эпохи стоит радикально – авторитет церкви, откровения и теологии, или же путь «научного», «рационального» и «экспериментального» знания, в течение всего 17 века интституализирующегося, обретающего отчетливый облик и метод, и в той же мере разрушающего «традиционно теологическую» картину мира, в которой все явственнее заявляющего претензии давать ответы на вопросы, в течении тысячелетия находившиеся во всецелом ведении церковного авторитета. Вопрос «о форме земли» в общем-то замкнул на себе как таковую дилемму авторитета церкви и теологического мировоззрения, совсем не случайно превратился в алтарь, на который почти символически приносятся в жертву жизни и судьбы ученых – речь шла о рациональным путем установленной истине, обнажавшей лживость тех теологических догматов, которые на протяжении тысячелетия предписывалось считать «истиной», в целом ставившей под сомнение истинность учения церкви и доверие к нему, и выводившей к главному «камню преткновения» в сознании эпохи: лежит ли путь к истинному знанию через авторитет откровения и веры, или же через рациональное и научное познание, клеймимое институтом и учением церкви «ересью». Фактически – этот вопрос олицетворил актуальную в событиях и дискуссиях эпохи, и вместе с тем вечностную в ставшем на античном наследии и в противостоянии ему христианстве, фундаментальную для христианского сознания дилемму: истина обретается в спекуляциях разума и на пути разума, или же в следовании авторитету евангельского и библейского откровения, несущего таковое учения церкви, ибо в откровении дана. Собственно – столкновение в сознании эпохи «рационального» знания с теологией, назревающее крушение религиозно-теологической картины мира, обрели в вопросе «о форме земли» символическое олицетворение и воплощение, и потому совсем не случайно, что в полотне, языком живописных образов говорящем о диспуте христианства с античной философией и рациональным знанием Нового времени как в конечном итоге возрождением ее наследия и традиций, этот художественный атрибут и символ фигурирует, и наряду с образом Диогена, занимает ключевое место. Обо всем этом должно быть сказано наиболее подробно и детально, ибо означенное собственно и обсуждается в полотне емким, символичным языком живописных образов, выступает смысловым контекстом и содержанием полотна, той смысловой реальностью, которая является его «предметом» как произведения искусства, воплощена в его образности и сюжетности, событийном ряде. Очевидно, что полотно, запечатлевающее диспут античного философа Диогена с христианскими теологами, один из которых представлен в персонаже евангельского или библейского старца, опирающегося рукой на глобус и указывающего на благовестную звезду в небе, а другой – всецело «барочен» и современен неизвестному художнику, конечно же не может быть атрибутировано как «Библейские сцены», не заключает в себе как такового «библейского» или «евангельского» сюжета, имеет смысловым сюжетом совершенно иное и говорит о чем-то гуда более сложном, глубоком и многогранном. Речь идет о сложном, многогранном, в первую очередь с точки зрения временной и пространственной собирательном образе-символе диспута, вмещающем в себя как наиболее характерные для эпохи барокко духовные борения и конфликты, культурные процессы и подвижки, так и фундаментальное для христианства и его сознания в целом противостояние с античностью, ее культурным и философским наследием, с заповеданным ею путем разума и познания, угрожающим авторитету откровения и церкви, ревностно отстаиваемому институтом церкви «мандату» на истину и всеобъемлющую власть над умами. Христианство сущностно связано с античностью как в плане философского наследия, так и в плане художественного мышления и наследия, точнее – воспринятой из античности ключевой роли искусства и визуально-образного мышления в религиозном сознании и структурах возникшей, состоявшейся на основах такого культуры. Античность и ее философское наследие присутствуют в реалиях и основах христианской жизни на протяжении всей ее истории, всего тысячелетия Средневековья – воспринимаются и структурно заимствуются философско-мировоззренческие идеи античности, категории и принципы мышления античной философии, схоластика и теология оперируют выработанными в античный период методами мышления. Однако – всему этому парадоксально противостоит постулат о незыблемом авторитете откровения, приданный учению церкви мандат на истину, культура и сознание христианства оказываются в парадоксальном и подчас драматическом противостоянии в отношении к их историческим основам и истокам – античности и иудаизму. Христианство возникает, становится и утверждает себя как на фундаменте культурного и философского наследия античности, так и в сущностном, радикальном и драматичном противостоянии таковому, в яростном и программном «оппонировании» античности, претендуя всеобъемлюще и окончательно сменить античность в качестве формы сознания и способа существования, картины мира и морально-этической парадигмы, безоговорочно и всецело присваивая библейскому и евангельскому откровению, несущему его учению церкви «мандат на истину» – подобное становится глубинным внутренним противоречием в культуре и сознании христианства. Тот факт, что художественно-философским символом этого противоречия и «оппонирования» выступило полотно неизвестного художника из Галереи Потоцких, во многом поразителен, и подобное, а так же богатейший смысловой контекст, по сознательной и последовательно воплощенной задумке автора вмещенный в образность и сюжетность картины, вместе с высоким уровнем чисто живописного исполнения, говорят о ней как о значительном произведении искусства эпохи, должном принадлежать кисти крупного мастера. Собственно – на протяжении всей своей истории христианство и церковь в качестве его структурного, основополагающего института, решают для себя ключевую дилемму: как вместить в себя античное наследие (в том числе и философское), на котором они зиждутся, становятся и утверждают себя, но в отношении к которому они находятся в сущностном противостоянии и конфликте, как сочетать это наследие с незыблемым авторитетом откровения и церкви в качестве источника истины. В эпоху Барокко эта дилемма становится наиболее актуальной и радикальной, зачастую в самом прямом значении слова «кровавой», ибо реинкарнация наследия античной философии в виде парадигмы «рационального» и «естественнонаучного» знания, обращается внятными процессами крушения и разрушения «традиционно теологической» картины мира, кризисом авторитета откровения, учения и института церкви как таковых. Собственно – именно поэтому образ Диогена в полотне соседствует с таким символическим художественным атрибутом как «глобус», и выступает одновременно олицетворением и античной философии в вечном оппонировании к ней христианства, и современных художнику веяний рационального знания, и ошибочности, химеричности «пути разума» как такового, иллюзорности возможностей разума и спекулятивного мышления в деле приближения к истине. Образ Диогена предстает в полотне символом именно как такового «пути разума» в его постулируемой теологией и церковью химеричности, ведь именно к Диогену обращены латинские слова – «то что он делает плохо, никто не пришел к нам оттуда». Философ, не ведавший сопричастности христианскому откровению, никогда не станет причастен истине, все его поиски истины тщетны – об этом говорят латинское изречение, убедительно и внятно выписанная художником мука отчаяния на лице Диогена, и такова в целом главная, стержневая мысль, ретранслируемая полотном. Целостным символическим образом этого сущностного для христианства «противостояния-диспута», ставшего наиболее актуальным в контексте культурных процессов эпохи барокко, является полотно неизвестного художника из Львовской картинной галереи. Полотно – глубочайший и целостный художественный символ мировоззренческого, религиозно-теологического и культурного диспута, оно представляет собой емкое живописное олицетворение пронизывающих эпоху Барокко духовных борений и конфликтов, именно в таком ключе должны интерпретироваться его сюжетность и образность. В самом деле – полотно поражает его пронизанностью фундаментальными для эпохи и процессов в ее сознании и культуре смысловыми коннотациями, превращенностью в целостный и объемный символ таковых, и подобное не случайно, ибо неизвестный автор сознательно, на уровне концепции и принципов сюжетности и образности, задумывал его как философский символ и «текст», как художественный символ ключевого для культуры и сознания эпохи «диспута». Полотно поражает именно его многогранным философским символизмом, сознательно привносимым в него художником посредством выверенных и тщательно продуманных приемов сюжетного, композиционного и образно-атрибутивного плана. Описанное смешение «времен и эпох, переплетение в образной и сюжетной структуре полотна «античного», «евангельского» и «барочного», относящегося к реалиям 17 века, («благовестная звезда», глобус, образ Диогена, «библейского отшельника» и современного неизвестному автору «христианского мужа»), всецело сознательны в произведении как художественная концепция, нацелены на превращение полотна в философско-теологический символ, в целостность философско-метафизических религиозных и нравственных смыслов, и вместе с высоким уровнем чисто живописного исполнения, это безусловно делает его значимым артефактом эпохи. В полотне поражают глубина философской мысли художника, а так же внятность тех художественных средств, которыми он доносит ключевые идеи и смыслы, превращает свое произведение в философский образ-символ. Образ Диогена в полотне выступает символом античности и философии как таковой, тщетности ее исканий и спекуляций, набирающего силу как тенденция и клеймимого «ересью» рационального знания, и для усиления подобных смысловых коннотаций этого образа, придания им внятности, неизвестный художник вносит в композиционную и образно-атрибутивную структуру произведения пресловутый «глобус», достигая таким приемом отсыла к актуальным для его времени баталиям и дискуссиям, процессам и событиям. Этот образ – олицетворение как античности и античной философии, в отношении к которым христианство находится в сущностном, историческом и фундаментальном для него противостоянии и «оппонировании», так и той «реинкарнации» наследия античной философии в современности художника, которой является набирающее силу, колеблющее авторитет церкви, «рациональное» и «естественнонаучное» знание. Собственно – образная, сюжетная и семиотическая структура полотна выстроены неизвестным автором так, что как-то иначе трактовать образ Диогена попросту невозможно. Вместе с тем, принадлежащие разным эпохам и временам «христианские мужи», призваны олицетворять непрерывность христианской истории, целостность и нерушимость «здания христианской веры», несомненность авторитета церкви, несущей «истину откровения». В области античных спекуляций разума невозможно обрести сопричастность истине, единственным путем к истине является христианское откровение – образность, сюжетность и семиотика полотна словно бы «кричат» об этой центральной, стержневой для такового мысли, «оппонирование» античной философии и ее современной художнику реинкарнации – «естественнонаучному» знанию, проступает и в «атрибутике» полотна («благовестной звезде» в небе, на которую указывает один из христианских мужей, «глобусе», латинском изречении в удерживаемой вторым мужем книге), и из особенностей образа Диогена, выписанного «отчаявшимся», измученным тщетностью его исканий. Диспут христианской теологии в борьбе за «мандат на истину» и незыблемость своего авторитета с античной философией, с набирающей силу парадигмой «рационального» знания – вот, что очевидно является смысловым «стержнем» и контекстом полотна, его «смысловым сюжетом». Сущностное, фундаментальное для христианства «оппонирование» к античной философии и ее упованию на спекуляции разума как путь к истине, утверждение в качестве такового библейского и евангельского откровения, авторитета церкви и теологии, столь актуальный для эпохи диспут церкви с набирающим силу «рациональным» знанием – таков смысловой и семиотический контекст полотна. Зрителю предстоят из полотна не «библейские сцены», перед ним – целостный и символичный образ философско-теологического диспута, представляющего собой глубинный процесс в сознании и культуре эпохи Барокко.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Заметки, написанные в коридорах»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Заметки, написанные в коридорах» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Заметки, написанные в коридорах» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.